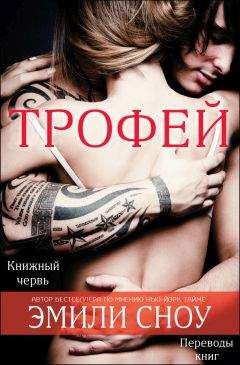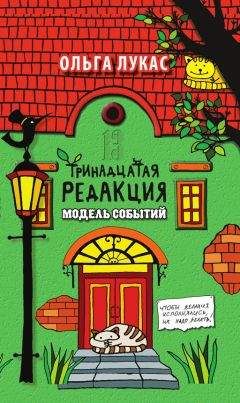Лукас Берфус - Сто дней
Теонест более или менее регулярно снабжал меня водой, приносил немного вареного риса, а иной раз и бутылку пива. Ко мне он относился хорошо, при том что других не жаловал, но тогда я об этом не знал. Мы играли на веранде в туфи, он сообщал мне новости о событиях на фронте, о потоках беженцев, иногда пересказывал какие-нибудь слухи, к примеру о том, что Агата покинула город или ухаживает в военном лагере за ранеными — каждый раз это звучало по-иному. Достоверным было лишь то, что в один из первых дней апреля в дом, где проживала вся ее родня, попал снаряд. Никто, однако, не знал, был ли при этом кто-нибудь убит или ранен.
Среди руин ютились беженцы с севера, и если днем я поднимался на крышу, то мог видеть за болотами по берегам Ньябугого позиции повстанцев. Они наступали, приближаясь к столице. Правительственные войска контролировали лишь центральные холмы с казармами жандармерии, военным лагерем и министерствами. Никто не сомневался в том, что удержать Кигали они не смогут. Временное правительство покинуло столицу вскоре после того, как был сбит самолет президента, и защищать войскам было, в сущности, некого и нечего. Оборонялись они лишь с одной целью: чтобы отряды ополченцев могли продолжать свою работу.
И Давид умолкает на этом месте, окидывая взглядом свое жилище, словно в следующее мгновенье кто-то может показаться в сгущающихся сумерках.
Но у меня были другие проблемы. Случалось, что Теонест не появлялся целыми днями, а когда приходил, то обычно приносил немного риса в маленькой миске и горсть сушеных бобов. Я размачивал их в банке и ел прямо сырыми. Для сбора дождевой воды ставил кастрюли в сад, но выходить туда в те дни было противно. Более чем противно. Там пахло, как вокруг скотомогильника на Жаворонковом поле, помнишь? Туда выбрасывали дохлых кошек и свозили коров, не переживших первого отела. Вот так же пахло в саду, только гораздо сильнее. Было такое ощущение, что ты сам сидишь в одной из ванн, куда в те годы складывали падаль. Поначалу меня рвало чуть ли не каждую минуту. Пахло даже в доме, и дождевую воду я пил через силу. Я слышал разговоры о трупах, плывших по Ньябаронго, и меня преследовала мысль, что вместе с испаряющейся речной водой в воздух поднимается и вода, из которой по большей части состоим и мы — люди. Небо проливалось трупной водой, и я много дал бы за возможность ее прокипятить.
Голод и жажда были не самой большой напастью — ею была темнота. Ровно в шесть часов вечера на землю разом опускалась ночь и накрывала меня, как нечто материальное, как черный платок или выплеснутый из ушата деготь. Ближайшим видимым источником света были звезды, и будь я путником, ищущим ночлега, то держался бы их — Проциона в созвездии Малого Пса, Рас Альхаге в созвездии Змееносца. Я не экономил, запас свечек вскоре иссяк, и я проводил ночи в полной темноте. Каждый вечер меня словно погружали в бочку с чернилами, и, когда через двенадцать часов — ни минутой раньше и ни минутой позже — всходило солнце, я оставался черным пятном, ходячей глыбой застывшего вара. Я не решался взглянуть в зеркало, боялся увидеть свое лицо с приставшей к нему тьмой — как с угольной пылью под глазами у горняков, выходящих после смены из забоя.
Мы не были созданы для этих ночей — я и все другие сотрудники дирекции. Мы родились в зоне сумерек. Нам нужны плавные переходы, требуется полумрак, мы зависим от ритмов светового излучения. Они сопровождают нашу жизнь — неярким солнцем в начале осени, резкими тенями, как в апреле. В наших широтах нельзя сказать наверняка, что сейчас — еще утро или, может быть, уже полдень. Когда начинается ночь и когда она кончается? Мы движемся в пределах смутного, нечеткого, там же, в двух градусах широты южнее экватора, солнце не дарит тебе ни грана свободы. Ночь падает, как гильотина, — без сумерек, лишь едва заметное пошатывание огненного шара на небе говорит о том, что дню вот-вот придет конец. Природа поворачивает выключатель, не давая тебе ни секунды отсрочки, не позволяя полусвету длиться и полминуты. С первого же мгновения царит непроглядная, бесспорная темнота. Она-то и изматывает европейцев. Порой мне казалось, будто я лежу в недрах земли, будто сижу в зловонном чудовище, рыгающем, громко выпускающем газы, а те, в свою очередь, исходят из проглоченных им людей. Шумы ночного боя меня не беспокоили — наоборот, они мне были знакомы. В конце концов мы с ними выросли, не так ли, говорит Давид и встает.
И я вспоминаю колонны танков, двигавшихся по шоссе в горы, грохот залпов из гаубиц, треск пулеметных очередей на полигоне. Если ты растешь в городе, где есть гарнизон, как это было с Давидом и со мной, то игрушки у тебя конечно же с оружейного склада. Например, батарейки к рации с напряжением в сто два вольта. Кусочком изоляционной ленты мы соединяли их парами и бросали в стайки гольянов. Рыбки всплывали брюшком вверх, мы доставали их из воды и кидали на берег, где они приходили в себя, беспомощно дергаясь, пока к серебристым брюшкам не прилипала галька. Мы не знали, что делать с уловом: гольяны были слишком мелкими и не годились ни для ухи, ни для жарки. Иногда карманными ножичками мы сдирали чешую, приоткрывали жабры, отсекали плавнички. Случалось, сдавливали так, что из тельца брызгали кишочки. А бывало, в порыве великодушия, бросали обратно в озеро.
Он встает, включает конфорку под кастрюлей и, пока еда греется, ставит на стол тарелки и кладет рядом ложки с вилками. Помещение освещается только маленькой, пожелтевшей от жира лампочкой возле вытяжки, и потому мир за окном выглядит теперь синим. А снег все идет и уже накрыл подоконник белым руном. Давид берет половник, и я вижу, как на столе появляется рубец, купленный у мясника в готовом виде. Лучшего рубца он никогда не ел, уверяет Давид, прежде чем налечь на еду; свою порцию он поглощает с почти неприличным аппетитом. Я ожидал, что после всего пережитого он станет вегетарианцем, однако он ест не только мясо, но даже требуху, ест коровий желудок, и я спрашиваю себя, не хочет ли он дать мне таким образом что-то понять, не намекает ли на свою конституцию, на крепость здоровья, на то, что вся эта история, какой бы ужасной она ни была, не мешает ему уплетать рубец с красным соусом.
Нет, продолжает Давид, вытерев рот, шум боя меня не беспокоил, тошно было только от криков ополченцев. С рассвета до заката они горланили на авеню Великих Озер, где построили заграждение. К тому же эти тупые мелодии Симона Бикинди с назойливым повтором одних и тех же ритмов: под них ополченцы творили свое дело, пока светило солнце. Ведь с наступлением темноты они разбегались по домам, оставляя улицы солдатам регулярных войск. Головорезы страшились темноты — таким вот тонким юмором блистал Кигали в те дни.
В первое время я держал днем ставни закрытыми, но потом Теонест сообщил мне, что ополченцы давно знают об умуцунгу, который фактически заперся в особняке Амсар. Он сказал им, что я швейцарец и, значит, на их стороне. Будь я бельгийцем, они не стали бы со мной церемониться и отправили бы на тот свет. Эти мерзавцы убивали каждого, у кого в удостоверении личности под графой Убвоко[1] три названия были зачеркнуты как несоответствующие, а еще одно обозначало народность, которую они и на дух не принимали. Меня же они считали своим союзником — таким же тружеником на их ниве, каким были все швейцарцы в последние тридцать лет, то есть с момента нашего прихода в эту страну. Почему что-то должно было измениться? Только потому, что теперь они отрубали женщинам груди и вырезали у беременных из чрева нерожденных детей? В конце концов, мы же научили их управлять страной, показали, как решаются задачи подобного масштаба. Вывезти куда-нибудь кирпичи или трупы — между тем и другим, в сущности, разницы нет. В общем они оставили меня в покое.
Не знаю, любил ли я когда-нибудь Агату. Быть может, в течение четырех лет, что я знал ее, я лишь пытался забыть нашу первую встречу, вытравить из памяти обиду, которую она нанесла мне, — тогда, в брюссельском аэропорту. Она должна была понять, что возле пункта паспортного и таможенного контроля за нее вступился не желторотый простачок, а ведь именно таковым она посчитала меня тогда.
В моей жизни это было первое авиапутешествие — в конце июня 1990 года. Мне предстояло стать сотрудником дирекции в Кигали. Меня ждали, и с чужих слов я знал, что работы там предостаточно: мой предшественник оставил после себя нешуточный беспорядок. Я летел с официальным заданием. И меня слегка распирало от гордости. Прибыв из Цюриха, я должен был пересесть в Брюсселе в самолет «Сабены», и поэтому полагалось пройти бельгийский паспортный контроль. И вот там стояла она. Африканка, одетая по-европейски, брюки «капри», из-под которых виднелись стройные ноги, открытые туфли, ногти, покрытые красным лаком, — такое мне доводилось видеть нечасто. Под мышкой она держала весьма интересный зонтик — с ручкой в виде утиной головы. Что-то было не в порядке с ее документами. Паспорт не мог вызвать нареканий, как я узнал позже, — загвоздка была в ее национальности. И бельгийские таможенники придирались к ней только по этой причине: она была гражданкой бывшей колонии. Перелистав ее документы раз, они принимались делать это снова и снова, задавали каверзные вопросы. Их было двое, и один из них, с массивными галунами и испитым лицом, вскоре куда-то отлучился. Люди давно встали в другую очередь, я же как стоял, так и продолжал стоять, с места не двигался: не хотел, чтобы эти пугала без свидетелей могли глумиться над женщиной. Сама она держалась спокойно, возня с документами ее явно не волновала, во мне же возмущение нарастало с каждой минутой. Полустертая надпись на полу требовала от меня оставаться за линией. Я медлил, решая, стоит ли нарушать запрет. В это время таможенник изрек то гнусное словцо из лексикона португальских работорговцев, с этимологией и значением которого я познакомился за пару недель до инцидента — на курсах для выезжающих за границу, в секции межкультурного общения. Расовая принадлежность определяется этим ругательством по цвету кожи.