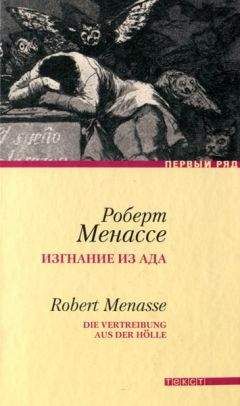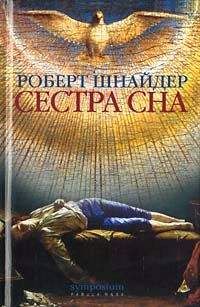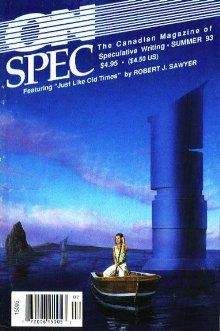Роберт Менассе - Блаженные времена, хрупкий мир
Он посадил меня к себе на колени и стал нашептывать мне что-то на ухо по-немецки, да-да, по-немецки. Его голос звучал так, словно долетал откуда-то издалека, огибая множество углов, из глубины какого-то лабиринта! рассказывал Зингер, явно привирая. А потом кто-то меня спросил: Ты знаешь, кто это был, малыш? Это был Борхес! А кто-то другой поинтересовался: Что там тебе Борхес нашептывал? — Я никогда этого не забуду!
А однажды появился у Левингера и тот самый Курт Вальмен, наверное, его привел кто-то из немецкой общины, говорили, что он бежал от нацистов в Латинскую Америку, перебивался в самых разных местах случайными заработками, и вот теперь хочет остаться в Сан-Паулу. Вальмен возвестил, что он философ, и Лео запомнил его особенно отчетливо не только потому, что тот утверждал, будто проехал в Латинскую Америку на пароходе зайцем, что, конечно, должно было особенно распалить детскую фантазию Лео, но прежде всего из-за той особой манеры, в которой Вальмен себя подавал: если о других гостях Левингера маленькому Лео рассказывали лишь, насколько они значительны, то Вальмен предпочитал сам, по собственной инициативе и в доступной каждому ребенку форме публично обнаружить свою значимость и гениальность. В отличие от тех историй, которые рассказывал ему Левингер, Лео ни слова не понял в жарких дискуссиях, которые велись в салоне, но, как выяснилось впоследствии, величественные жесты Вальмена отпечатались в его памяти, запомнилась его не терпящая возражений, пророческая манера говорить, отметая чужие доводы, вскакивать с места, впадать в высокопарный тон глашатая, тирады, в которых Лео понял лишь слова вроде «несомненно», «самоочевидно», «полностью», «абсолютно», и все вновь и вновь — слова «мир», «человечество», звучащие с таким жаром, будто и мир, и человечество создал он сам.
Когда Лео рассказывал обо всем этом Юдифи, он чувствовал, что находится в состоянии какого-то опьянения, это было опьянение оратора, он вдохновенно изменял и приукрашивал то, о чем говорил, рассказывал о «пламенном взгляде» Вальмена и о «ледяной отчужденности», которая якобы царила среди слушателей, но о которой он на самом деле узнал только потом, когда кто-то позже снова вспомнил о Вальмене. Но он в тот момент испытывал от своего собственного рассказа такое наслаждение, что неважно было, все ли до последней детали он передает в точности.
Так или иначе, но тогда Лео в скором времени убежал в сад, потому что в дискуссии, которая разгорелась в салоне, он все-таки совсем ничего не мог понять, — а через некоторое время он черным ходом вновь пробрался в дом, и теперь он был бездомным бродягой — lampião в борьбе против землевладельцев — coroneis da terra. Он крался по коридору и, пробираясь мимо кухни, услышал сквозь приоткрытую дверь странные звуки. Он заглянул в щелку. Он увидел ноги в чулках, высоко задранный подол платья, мужскую спину, руки, вцепившиеся в рубашку, это был «тот человек», Вальмен, и повариха, и оба возились на каменном полу кухни, словно борцы.
Тогда я помчался в гостиную, встал перед Левингером и, подражая жестам и интонациям Вальмена, провозгласил: Самоочевидную борьбу не на жизнь, а на смерть ведет человечество на кухне! — Все засмеялись, и только Левингер, задумчиво взглянув на меня, быстро прошел на кухню, сообразив, что я там такое увидел.
Ты все придумал! сказала Юдифь.
Разумеется, правдой здесь было не все. Лео действительно подглядывал в щелку и видел Вальмена с поварихой на полу, и возможно также, что он принял это за драку. Но в то же время все это показалось ему мучительно загадочным и шокировало его, он сразу понял, что ему нельзя на это смотреть. Но то, что он передразнивал Вальмена при гостях — это он сочинил в тот момент, когда рассказывал. И если честно, Лео не мог даже определенно сказать, почему собственно Вальмен с тех пор больше никогда не появлялся у Левингера: крылась ли причина в его поведении в салоне, или — в истории с поварихой, или в чем-то другом, хотя время от времени его имя еще всплывало, когда впоследствии о нем велись жаркие споры. Даже годы спустя. Например, о Вальмене говорили после войны, когда, по словам Лео, он создал в Рио организацию, помогавшую немцам эмигрировать в Бразилию, но Лео только потом стороной стало известно, что речь шла о каких-то весьма сомнительных аферах.
Теперь Лео снова вспомнил, почему они заговорили на эту тему. Они же пытались найти общих знакомых в Сан-Паулу, и Лео спросил у Юдифи, знает ли она Левингера. И тут ему пришло в голову, что Левингер в 1959 году, когда Лео в последний раз перед отъездом в Вену зашел к нему попрощаться, показал ему газетную вырезку с фотографией Вальмена — газета сообщала о покушении на полотно Рубенса в Мюнхене — и сказал: Ты припоминаешь того сумасшедшего? Взгляни, что он натворил!
Нет, ты только представь себе, сказал Лео, я ведь действительно очень люблю Левингера, я люблю его, как родного отца. И вот утонченный знаток, один из крупнейших современных коллекционеров живописи читает в газете о человеке, который погубил, может быть, самое лучшее полотно Рубенса, и который еще совсем недавно был гостем его дома. Ясно, что понять его он не может. Но возможно Вальмен и прав. Я имею в виду, что он, возможно, действительно создал некую философскую систему, которая способна изменить мир. Ни один человек к нему ни разу не прислушался. Ни один человек не стал с ним этого обсуждать. Это ведь должно быть ужасно — нет, подожди! Ты только представь себе! — действительно ужасно, когда знаешь самое главное и видишь, что тебя никто не желает выслушать, тогда получается, что необходимо подать хоть какой-то сигнал. Что уж тогда одно полотно Рубенса в сравнении с целым миром, я имею в виду, если бы у него все получилось. Но тут-то у них и появились основания с полным правом зачислить его в сумасшедшие, вот ведь в чем проблема, они лишь побудили его дать им эти основания для доказательства того, что ему вменялось и прежде, а именно — сумасшествие. Но если дело обстоит так, то в уничтожении картины виноваты все остальные, а отнюдь не Вальмен.
Лео смотрел на Юдифь в каком-то порыве чувств, который оттеснил прочь все звуки, наполнявшие это кафе, и припечатал их к стенам так, что они, казалось, приклеились к ним; он знал, что ему придется еще много часов говорить и очаровывать ее, прежде чем он сможет ее соблазнить, все в нем было полно какого-то напряженного бессилия, и все время — эта улыбка всеведения, которая помогает так легко установить доверительные отношения, и при этом она так беспомощна, когда приходится смотреть в лицо, подобное лицу Юдифи.
Но это ведь полный абсурд, сказала Юдифь, когда человек думает, что он совершенно один и только с помощью своих идей сможет изменить мир.
Почему же? Всегда именно так и было! Зингер, несмотря на свои двадцать девять лет, был необычайно невинен и наивен. Наполеон, например, изменил мир, и шум, который он при этом произвел, проникает в кабинет Гегеля, вдохновляя его на философию, которой снова суждено изменить мир, и так далее. История ведь ничему другому и не учит, кроме как тому, что мир изменяют отдельные личности. Так Зингера учили. Юдифь засмеялась; рот у нее был немного великоват, и это, казалось, придавало особое величие ее смеху, величие в переносном смысле, и было привилегией, доступной лишь избранным. Он был худощав, небольшого роста и подчеркнуто резко, если можно так выразиться, едко безобразен; резко в нем было все: крючковатый нос, резко выдававшийся на лице, узкая щель рта, причем нижняя губа, оставаясь резко очерченной, иногда как-то непристойно плотски выпячивалась, очки с толстыми стеклами в черной оправе, которые он иногда сдвигал на гладко зачесанные назад, казалось, жирные волосы, если очки начинали слишком давить на бородавку на носу. Но Юдифи он нравился, она видела в резких чертах его лица до предела обостренную восприимчивость и доброту, и одновременно — светящуюся в этом лице, но еще не проявившую себя «открытость миру». С трепетом следила она за движениями его маленьких нежных рук и вслушивалась в интонации его речи, в этот чуть заметный и непонятный почти никому акцент, который она сразу распознавала, акцент, представляющий собой сплав бразильского детства и венских родителей. Лео хотел бы знать о Юдифи все, представлять себе каждую секунду той жизни, которую она прожила до сих пор, но она ничего не могла ему рассказать, потому что он, возбужденный крайним любопытством, сам не переставая говорил. Вальмен как тема разговора, хотя теперь уже в некоем обобщающем смысле, по-прежнему занимал его, он говорил о намерении изменить мир и о возможных причинах того, почему человечество принимает сегодня такое намерение за проявление безумия. Нацисты, говорил он, разрушили все, даже самые элементарные представления об истории. И поскольку они все разрушили, поколению, которое было принесено в жертву, а теперь занимается восстановлением, кажется безумным все, что выходит за рамки того, что они восстанавливают. Он говорил все это с ходу, просто так, как говорил всегда, воодушевляясь от того, что все это внезапно приходило ему в голову, говорил просто потому, что Юдифь была рядом, а звучало это так, будто он, делая великое исключение, раскрывает перед ней результаты своих длительных раздумий. Его тезисы странно звучали в городе, который, пройдя огонь и воду, был непробиваемо равнодушен к любым идеям, означающим, что что-то могло быть иначе, чем оно есть, в городе, который удивительно прочно застыл в своем бытии, так что выражение «Вена остается Веной» воспринималось как ложь только потому, что звучало слишком эвфемистично:[5] глагол «оставаться» оказывался излишне динамичным. Они отправились в кафе «Спорт» как раз потому, что это было в те времена такое заведение, которое казалось либеральнее этого города, единственное в какой-то степени открытое всему миру место в таком местечке, как Вена, но Лео не замечал уже ни времени, ни места, он не замечал грязи, царящей здесь, где подавалась на закуску романтика того сорта, когда лужица красного вина на мраморном столе уже побуждает к медитации; не замечал он и нетипичную для Вены урбанистичность публики, множество играющих в кости арабов, персов или греков, это кафе было, пожалуй, более урбанистичным, чем сама Вена, хотя некоторые из посетителей были венцами, из тех, что уже повидали мир и теперь со светской дерзостью сидели здесь, кутаясь в канадские меховые манто или перуанские пончо, но большинство здесь составляла все же богемная публика, которая сидела группками и, в отличие от прочих посетителей, усердно упражнялась в сочинении правил поведения в кафе, которые она затем, когда кто-нибудь из них поднимется до уровня владельца подобных кафе, должна будет знать назубок, и тогда ей не будет в этом равных. Но Лео не слышал греческих и французских песен, звучавших из музыкального автомата, не видел людей, сидевших за игрой в кости, не видел и тех, которые что-то обсуждали и кричали, и тех, что, начитавшись Вийона[6] и Керуака,[7] обложенные томиками стихов, напивались и размышляли на тему, не бросить ли чтение совсем. Не замечал стен, облицованных коричневым деревом, и зеркал, висевших вокруг и словно ослепших. Юдифь же все это отлично замечала, попутно, между делом, как детали, которые, едва она их примечала, тут же как бы размывались в ее глазах, создавая особую атмосферу, — и при этом не переставала внимательно и с удовольствием смотреть на Лео. Атмосфера эта была ей приятна, и это кафе, куда ее привел Лео, напоминало ей своей растрепанной, пестрой и голосистой простотой бар Сарадо на улице Дона Веридиана в Сан-Паулу, в котором до путча она так любила посидеть, место встреч студентов из находящегося поблизости университета Маккензи, место, которому Юдифь обязана своим первым в жизни похмельем, когда выпила слишком много пива «Брахма» и слишком долго вела разговоры о Боге и о вселенной.