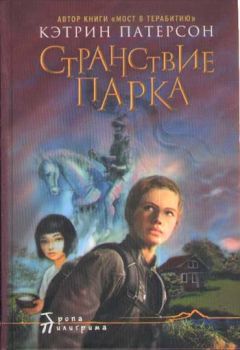Николай Байтов - Думай, что говоришь
После двух-трёх дней дождя, если вдруг ударил бы ночью мороз — это было бы самое лучшее. Тогда формочки с буквами можно было б тоже оставить под открытым небом, очистившимся и звёздным, — и к утру четвёртого дня они были бы готовы. Почему — не знаю, но мне кажется, это как-то более соответствовало бы… Хотя нет, конечно, это непринципиально, даже несмотря на то что в холодильнике они испытывают вибрации от мотора…
Хотя кто его знает. Говорю, что на дворе мне было б за них спокойнее. Но как можно подгадать такую погоду? Послушать прогноз — так ведь надёжность у него очень маленькая. —
На пятый день вы входите в звукоизолированное помещение и вновь сливаете воду в большую посуду, можно в ту же ванну. Затем погружаете туда буквы, отделённые от форм. Во всё время, пока они будут таять в воде, текст должен звучать. Если текст короткий, вам придётся произнести его несколько раз. Можно, конечно, записать его предварительно на магнитофон, но только запись должна быть очень чистой, без шумов, а потому лучше пользоваться своим натуральным голосом. Весь текст должен звучать на ноте ре, однако в данном случае октава не важна, выбирайте, какая для вас удобней. Медленно тающие льдинки будут наконец в воде почти неразличимы, но таяние должно закончиться полностью ещё во время звучания, поэтому надо повторять текст с запасом, лучше для уверенности — в течение двух-трёх часов. Затем опять надо оставить воду в абсолютной тишине на двое суток.
После этого вода готова к употреблению и с ней можно делать всё что угодно: обливать ею, обрызгивать или умывать людей, которых вы хотите сделать адресатами своего текста. Или давать им пить эту воду в любых количествах. Или вымачивать в ней белые листы бумаги, а потом передавать или посылать по почте. При этом вовсе не обязательно ставить ваших адресатов в известность, что эта вода подготовленная. Для акта передачи достаточно вам самим это знать. Ведь даже если вы предупредите адресата, это никак не повлияет на его восприятие: всё равно, в любом случае, ваш текст никак не будет воспринят им или осознан.
Леночка
Я не знаю, что со мной сделалось. Я начала биться под ним и быстро-быстро выкрикивать все запрещённые слова варваров, которые слышала в школе. Но этого мне было почему-то недостаточно, я не знала, что мне делать, и я наконец крикнула ему в ухо слово моей матери — оно тоже варварское, но я не произносила его даже мысленно с семилетнего возраста, когда моя мать умерла…
Но и этого было мало. Ведь для него это были самые обычные слова. Он удивлялся вообще, что я кричу, но не понимал, будучи простым варварским мальчиком, и не мог понять, почему я кричу именно их и что это значит для меня.
И тогда я стала кричать на языке моего рода — те запрещённые слова, которым научил меня прадед Пафнутий Алексеевич.
И я крикнула слово «гмынх» (подушка) — слово его брата Николая, авиатора, погибшего в первую империалистическую войну на австрийском фронте.
И я крикнула слово «да́кань» (плесень) — слово его отца и «ома́вье» (искать) — слово его матери.
И я крикнула слово «ка́дье» (висеть, виснуть) — слово его бабушки, которую задавила лошадь.
И я крикнула слово «лума́жа» (ботинки, обувь) — слово его двоюродного брата Константина, умершего в 1911 году от рака горла.
И я крикнула слово «у́лый» (прозрачный) — слово его двоюродной сестры Лидии, которая в 1918 году вышла замуж за турка и уехала в Турцию, где через год была задушена двумя старшими жёнами.
И я крикнула затем слова трёх его сыновей, двое из которых были репрессированы и умерли неизвестно где, а третий — мой дед — погиб в Великую Отечественную войну под Севастополем.
И я крикнула наконец слово «ста́мка» (секунда) — слово моего великого троюродного деда Емельяна, составителя словаря, который был убит его племянниками, Антоном и Александром, но который жив и ещё вернётся.
И тогда вдруг всё разрешилось благословенными, сладостнейшими слезами, и я была успокоена и счастлива, что мне не пришлось крикнуть последнего из запрещённых слов нашего языка, того слова, которое я сама запретила десять месяцев назад в присутствии всех наших родственников, когда они собрались за столом после похорон моего прадеда Пафнутия Алексеевича.
2Когда накануне я сказала отцу, что хочу сама запретить слово, я очень волновалась, но он не удивился.
— Да, в конце концов, ты заслужила это право, я думаю, — сказал он грустно. — И я думаю, Антон Григорьевич пойдёт на это. Тебе нужно позвонить ему.
— Позвони ты, — попросила я. — Мне неловко, ты понимаешь.
— Да, конечно… Жаль, что ты не сказала мне раньше, когда все были в церкви. Я бы с ним переговорил. Ну, ладно…
Я волновалась, потому что не хотела признаваться, что прадед открыл мне некоторые из запрещённых слов и что теперь по знанию языка я — старшая. Но отец понял моё желание по-другому: ведь это именно я три последних года была возле прадеда добровольной сиделкой: кормила его, одевала, мыла, выносила горшок. У прадеда не было более близкого человека, чем я, и, если б его спросили, кому бы доверил он выбрать слово смерти, он наверняка (зная его характер) указал бы на меня.
Отец позвонил Антону Григорьевичу. Я не слышала их разговора, но через минуту отец позвал меня к телефону.
— Леночка, — живо, ласковенько отозвался Антон, — папа мне сказал… Да, я очень тронут… Это замечательно, что ты хочешь исполнить эту грустную и великую нашу обязанность… Да, дедушка Пафнутий был, можно сказать, корнем нашего рода… Сто двенадцатый год — шутка ли… Кто из нас… Да, надо подумать… Ты знаешь, Леночка… А ты прикидывала уже, что ты хочешь… что бы он хотел… Ведь он, насколько мне известно, очень любил цветы, разные травы… Он и вместо чая всегда заваривал… эту траву… как её…
— Я не знаю её названия, — сказала я сухо.
— Ну да, ну да, — спохватился он лживо, — откуда тебе и знать… «Бумажный кошелёк» — да? — так мы называем её, пользуясь, увы, варваризмами, да… Красивое название, правда? Замечательный эвфемизм, метафора высшего, пожалуй, вкуса, а? как тебе кажется?.. Вот, может быть, и взять «кошелёк», например, а? как ты думаешь?
— Антон Григорьевич!
— Что? Ну что, моя печальная?
— Значит, будем говорить без дураков. Вы хотите, чтобы я запретила варварское слово!
— Леночка, милая! Ну что ты! Конечно, папа правильно сказал: это твоё право, и я с ним полностью согласен. Но ты подсчитывала когда-нибудь, сколько слов осталось у нас в высоком языке? а? подсчитывала?.. Я тебе скажу точную цифру: четыреста восемнадцать! Да, вот так… И мы почти ничего не можем уже на нём сказать, не можем объяснить нашим детям…
— Антон Григорьевич, простите меня…
— Что? Ну что ты хочешь…
— Антон Григорьевич, я хочу у вас спросить… Простите меня… Насчёт Емельяна Андреевича… Когда вы с Александром Григорьевичем… ну, все это знают… Короче, — разозлилась я, — вы какое слово тогда запретили?.. То есть я не спрашиваю, какое именно, я только хочу, чтобы вы ответили: высокое или варварское?
Он молчал несколько секунд совершенно ошеломлённый. Потом сказал осторожно:
— Да, Леночка, это было высокое слово… Но ты знаешь…
— Но ведь Емельян был варваром, — перебила я, — он же пришёл в наш род со стороны. Так или нет?
— Да, конечно… Но мы очень — ты понимаешь? — очень… учитывая его заслуги перед языком, мы тогда… мы не могли не…
— Его заслуги? За которые вы его… удалили — так скажем…
— Что?..
Так я раскрыла карты: я обнаружила своё старшинство. Я раскрыла и грех прадеда, но после этого Антон уже ничего не решился возразить. А я всё говорила по инерции:
— Язык не пропадает. Он остаётся благодаря таким людям… И таким, как прадед Пафнутий… А вы…
Но он уже всё понял:
— Хорошо, хорошо, Леночка… Ты только не волнуйся… Ты очень устала… Эти последние дни… Конечно, тебя поразила до глубины души эта смерть… эта величественная кончина твоего… нашего, нашего дедушки Пафнутия… этого действительно патриарха… Да, ты права… И ты сделаешь всё так, как ты захочешь: завтра ты сама — только сама — выберешь и скажешь…
Всю ночь я не спала после этого разговора. Я без конца перебирала в уме разные слова. Я продолжала это делать и на другой день на кладбище, оглядываясь и стараясь не пропустить ничего «звучащего» из тех предметов, действий и качеств, которые входили в поле моего взгляда. Без словаря было мучительно трудно, но так, наверное, и должно это происходить — не механически, а живым ощупыванием и вслушиванием…
И после кладбища поехали к нам — все, кто там был: мой отец и мой старший брат Александр с женой Ириной и с детьми: трёхлетним Володей и двухлетней Машенькой; и моя двоюродная тётка Валентина Терентьевна, и её муж Геннадий Алексеевич, и их сын Алексей, студент (которому очень хотелось всё время на меня смотреть, потому что он явно балдел от этого, но он сдерживался и сохранял вид торжественный и скорбный, соответствующий похоронам), и их дочь Татьяна с сыном Виталиком шести лет (а муж Татьяны, Борис, работающий мотористом на речном теплоходе, не пришёл, потому что был в рейсе); и Антон Григорьевич с женой Светланой Николаевной (а их незамужняя дочь Лариса, душевнобольная, отсутствовала, потому что лежала в больнице; а дочь его брата Александра — Людмила с мужем Борисом Ивановичем и с двумя мальчиками-школьниками — тоже отсутствовали, потому что были в это время в Канаде, куда Бориса Ивановича пригласили читать лекции по биологии в каком-то университете).