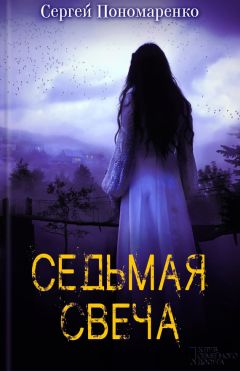Федор Абрамов - Пути-перепутья. Дом
Дальше все было знакомо. Старые, визгливые воротца на задворках, тропинка вдоль картофельника, баевская баня — тут муж отпустит жеребца. Намотает на голову повод, даст легкий пинок под зад, и трясись себе на конюшню.
И тем не менее Анфиса глаз не спускала с мужа. Она ждала, куда пойдет Иван от баевской бани. Ежели повернет назад, домой, то, считай, на этом и кончится ихняя размолвка — сын примирит с матерью, а ежели повернет на дорогу…
Никогда сроду не отличалась набожностью Анфиса, но тут начала шептать про себя молитву — до того ей хотелось, чтобы муж повернул домой. И, в конце концов, даже не ради того, чтобы водворился мир в ихнем доме. Бог уж с ним, с этим миром. Не впервой они ссорятся. Ей хотелось этого ради самого Ивана. Потому что поверни Иван на дорогу, куда же он сейчас пошастает, как не под гору — к баржам, к мужикам? А из этого такое может выйти, что и не расхлебать потом.
Иван повернул на дорогу.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Новый коровник в Пекашине заложили два года назад, и ох какая радость была у людей! К новостройке у болота пролегли тропы чуть ли не от каждого двора, ребятишки перенесли туда свои шумные игры, прохожие и проезжие приворачивали. В общем, все, все истосковались за эти годы по звону топора да по щепяному духу.
Стены поставили быстро, за весну и осень. А дальше — стоп. Дальше заколодило. Сперва из-за плах для пола и потолка — в Пекашине все еще не было своей пилорамы, потом из-за гвоздей — нет в продаже, хоть пальцы свои забивай, а потом вот из-за нынешней страды. Мокрядь. Сеногной. Сухие, ведреные деньки наперечет. А обычно так: с утра жара, рубаха мешает — золото день, а только за грабли взялся — и потянуло из сырого угла. Ну и что было делать? Пришлось плотников бросить на сенокос.
Но, конечно, все эти помехи и задержки — и плахи, и гвозди, и нынешняя погода — все это больше для районного начальства, для отчетов. А сам-то Лукашин понимал, в чем главная загвоздка. В мужиках.
Когда, с какого времени сели топоры у мужиков? А с прошлой осени, с той самой поры, когда в Пекашине — который уж раз — до зернышка выгребли хлебные сусеки.
И все же, говорил себе Лукашин, выходя на деревенский угор, такого еще не бывало. Первый раз плотники не вышли на стройку днем.
Орсовский склад у реки, огромная хоромина под светлой, еще не успевшей почернеть крышей, походил на крепость, окруженную белыми валами из мешков с мукой, из ящиков со сладостями и чаем, из бочек с рыбой-морянкой.
Все это добро было предназначено для рабочих Сотюжского леспромхоза (в Пекашине у него перевалочная база, выстроенная в прошлом году), а колхозникам — ни-ни, килограмма не достанется. Ибо у колхозников своя снабженческая сеть сельпо, а сельповская сеть, известно — всегда пуста. Вот мужики и стараются урвать из орсовских богатств хоть малую толику во время выгрузки. Тут уж орс не жмется, щедро платит и натурой, и деньгами.
Судя по тому, что под складом не было видно ни одного буксира, разгрузка сегодня всего скорее была закончена, и поостывший немного Лукашин начал было подумывать, а не повернуть ли ему назад. Мужики сейчас по случаю завершения работы наверняка пьяны, а с пьяными мужиками какой разговор? А потом, уж если на то пошло, он не хуже своей многомудрой женушки понимает, из-за чего удрали мужики на выгрузку. Когда, в каком месяце он выдавал колхозникам хлеб? В июне, перед страдой. А сегодня какое у них число?
Нет, приказал себе Лукашин, надо все-таки спуститься, а то, чего доброго, они и завтра удерут. У нынешнего мужика совести хватит.
2Лукашин не ошибся: грузчики выпивали. На вольном воздухе, возле костерка, а чтобы огонь не мозолил глаза их женам (те под вечер каждый раз высматривают своих пьяниц с деревенской горы), прикрылись сверху брезентом. Сообразили! А у скотного двора два года не могут поставить самого ерундового навесишка, от каждой тучи к кузнице бегают.
Ефимко-торгаш, зав перевалочной базой, с ног до головы перепачканный мукой (так сказать, из самого пекла хлебной битвы вышел), заплясал перед Лукашиным как черт: чует свою вину. И у Михаила Пряслина с Борисом Саловым, молодым парнем из вербованных, которого в прошлом году привела в колхоз с лесопункта доярка Маня Иняхина, совесть заговорила: оба взгляд отвели на реку.
Ну а Петр Житов не смутился. Лихо, в упор глянул на председателя своим рыжим, уже хмельным глазом и для полной ясности смачно хлопнул по протезу — с меня-де взятки гладки.
На остальных можно было не смотреть: что Петр Житов скажет, то и они. Да и какой от них толк вообще? Самая что ни на есть нероботь: один кривой, другой хромой, третий еле видит. Даже в лес им ходу нету — вот и околачиваются в колхозе, пьют да делают бабам ребятишек.
По распоряжению Ефимка для Лукашина быстро раздобыли граненый стакан, поставили ящик из-под конфет (Петр Житов и сам Ефимко сидели на таких ящиках), и пришлось сесть. Не будешь же рубить с ходу!
— Чугаретти, а ты какого хрена? Особое приглашение надо?
Только теперь Лукашин заметил своего шофера Анатолия Чугаева, прозванного так с нынешней весны. Правда, попервости его окрестили было по созвучию имени Тольятти, и простодушный и простоватый Чугаев, когда ему растолковали, кто такой его знаменитый «тезка», от радости был на седьмом небе. Но Петр Житов, человек, по местным масштабам весьма искушенный в политике, сказал:
— Не. Не пойдет. И рылом не вышел, и автобиография не та.
— Ну тогда пущай хоть Чугаретти, что ли, — предложил Аркадий Яковлев. — А то вознесли человека на колокольню и хряп вниз башкой.
— А это можно, — милостиво разрешил Петр Житов.
Так вот, Чугаретти, которому Лукашин строго-настрого, уезжая в район, наказал день и ночь возить траву на силос, сейчас в своем диковинно красном берете стоял возле полуторки у ворот склада и искоса, воровато, что-то ковыряя сапогом, поглядывал на своего хозяина.
В один миг с Лукашина слетели все обручи, которые он с таким трудом набивал на себя, шагая сюда.
— Я тебе что, что говорил? Калымить?
— Да ты что, понимаешь, товарищ Лукашин, — обиженно забухал Ефимко. — Что значит калымить? Должна же быть у советского человека сознательность…
— Заткнись со своей сознательностью! Сознательность… Я сознательностью твоей коров зимой кормить буду, да?
Чугаретти, виновато горбясь, начал заводить железной рукояткой мотор грузовика. Но тут уж за обиженного вступилась вся шарага: дескать, как же это так? Человек ишачил-ишачил как проклятый, а тут, выходит, напоследок и душу согреть нельзя. Да стограммовка еще в войну прописана нашему брату. Самим наркомом прописана.
Заступничество товарищей едва не довело чувствительного Чугаретти до слез: толстые губы у него завздрагивали, а большие коровьи глаза навыкате налились такой тоской и печалью, что, казалось, во всем мире не было сейчас человека несчастнее его.
— Ладно, — буркнул Лукашин в сторону покорно выжидающего Чугаретти, заправляйся да уматывай поскорей, чтобы глаза мои на тебя не смотрели.
Выпили. Кто крякнул, кто сплюнул, кто полез ложкой или прямо своей пятерней в котелок со свиной тушенкой.
Веревочку-выручалочку бросил Филя-петух, щупленький, услужливый мужичонка со светлым начесом над бельмастым глазом, но очень цепкий и тягловый, как говорят на Пинеге, и страшный бабник. Филя, явно тяготясь молчанием, сказал:
— Иван Дмитриевич, а чего это, говорят, у нас опять вредители завелись?
— Какие вредители?
— Академики какие-то. Русский язык, говорят, вроде хотели изничтожить…
— Язык? — страшно удивился Аркадий Яковлев. — Это как язык?
— Да, да, — живо подтвердил Игнатий Баев, — я тоже слышал. Сам Иосиф Виссарионович, говорят, им мозги вправлял. В газете «Правда»…
— Ну вот, — вздохнул старый караульщик, — заживем. В прошлом году какие-то космолиты заграничным капиталистам продали, в этом году академики… Я не знаю, куда у нас и смотрят-то. Как их, сволочей, извести-то не могут…
— А ты думаешь, всякие черчилли зря хлеб жуют?..
— Обруби концы! Кончай разговорчики! — вдруг заорал как под ножом Ефимко-торгаш и встал.
— Ты чего? — Петр Житов повел своим грозным оком. Ни дать ни взять Стенька Разин. Да для пекашинских мужиков он, по существу, и был Стенькой. Потому как умен, мастер на все руки и характер — каждого под себя подомнет. — Ты чего? — грозно вопросил Петр Житов.
— А то! На моем объекте политику не трожь, ясно? Чтобы никаких разговоров про политику…
— Мишка, своди-ко его на водные процедуры. — Петр Житов вытянул руку в сторону реки.
— Можно, — ответил, усмехаясь, Михаил и с радостью начал расправлять свои широченные плечища.
Ефимко — недаром торгашом прозвали — не стал дожидаться, пока Михаил встанет на ноги да примется за него, а живехонько, с ловкостью фокусника извлек откуда-то новую бутылку и поставил перед Петром Житовым.