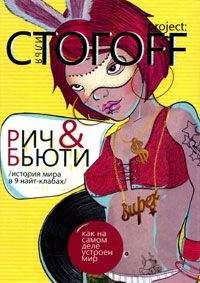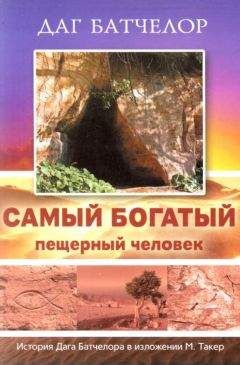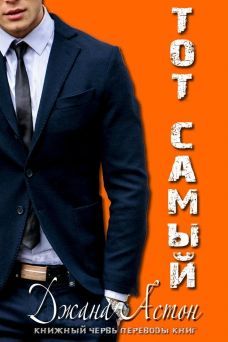Николай Кононов - Похороны кузнечика
У папы есть душистый «Урал». Это мотоцикл. Он похож на особь огромного кузнечика с сияющими, любовно промытыми суставами и натертым до лоска черным кожаным седлом на спине за бензобаком. Одноглазый мотоцикл приносит мне счастье и ликование, когда несешься или даже просто сидишь в глубокой люльке, прилаженной сбоку.
Я забирался в ее железное нутро, и во мне срабатывал детонатор, и движенье, дорога, впечатления одномоментно сами врывались в меня взрывной волной, горячились и упирались в мою грудь и шевелили волосы. Я несся в защитных очках вперед со страшной скоростью, сидя на месте и оглушительно тарахча.
На самом горизонте, на макушке высокого холма, за нашей дачной «Зоналкой» – триангуляционная вышка, как обещание чудного будущего, устремленного куда-то вверх ракетой, и поодаль огромные серебряные танки с газом внутри, конечно, живым и синим. Я никогда не мог до них добраться. Это было очень далеко.
Иногда жаркий ветер приносит неведомо откуда внезапную волну мотоциклетного рева. Звериный рык. Кто там живет? Какое существо? Как его зовут?
В чахоточных лесопосадках отделяющих от грунтовой дороги опытное, разбитое на пронумерованные узкие делянки небольшое кукурузное поле я нашел вчера, когда гулял там под вечер, крупного кузнечика цвета папиной гимнастерки. Вообще-то я отбил его в бою у осы стебельком кашки, как копьем, она хищно выедала из него, еще живого, замечательно золотоглазого, лежащего на боку, бело-зеленую тину брюшины, будто обжора – начинку из пирожка.
Изувеченный, он теперь тайно спрятан в мой спичечный коробок.
Как принцесса – в хрустальную гробницу или фараон – в золотой саркофаг. Я ношу его с собой.
Мне не хочется думать, что он мертв.
Я даже не знаю, что это такое, хотя много раз видел похороны на нашей улице и покойников самого различного сорта. Их несли обычно какое-то расстояние мимо нашего дома, мимо окон, перед тем как поставить в кузов грузовика, по родной улице Шевченко в открытых гробах лицом к небу, покачивая на перекинутых через мужские шеи полотенцах, словно в люльках. Всяких разных – вздувшихся утопленников, неподъемно тяжелых, надутых, как резиновые груши, легких сине-серебристых боговерующих старушек, ссохшихся, словно вобла, спящих на самом дне глубокого гроба с бумажной церковной ленточкой на лбу, я даже встретил однажды страшных темно-коричневых, словно котлеты, угоревших на пожаре, у них были черные обугленные головешки вместо носов...
Мои близкие никогда не умрут. Этого просто не может быть. Я никогда даже не мог об этом подумать.
Коробок оттопыривает карман застегнутых штанов.
Я просто так лежу на бабушкиной постели, глядя в чуть голубоватый филенчатый потолок – бабушка всегда добавляет в побелку порошок синьки. Потолок такого же цвета, как и ее волосы, тоже чуть подсиненные, – прозрачные легкие кудряшки. Она ходит в одну и туже парикмахерскую делать завивку.
Я сцарапываю островок засохшей отвердевший сукровицы со своей недавно разбитой коленки. Он вообще-то должен отвалиться сам, но любопытство или другое темное чувство торопит и томит меня. Я хочу увидеть новую бело-розовую кожу, под которой моя дорогая плоть; если на это место сильно надавить, побелеет, как снег. Но на этот раз я слишком поторопился. Рана еще не совсем зажила, и вот я гляжу на выступившую из-под края болячки, из глубины моего сладкого тела нестрашную темно-красную тяжелую каплю. Она быстро делается студенистой, темнеет на глазах, матово застывает и превращается в плотный струп (о, как мне не нравится это слово). Значит, я красный изнутри, тяжелый и сумеречный, а кузнечик бело-зеленый, прозрачный и легкий, прыгучий, как душа с белой церковной бумажкой на лбу.
Однажды на противоположной стороне, во дворе самого высокого на нашей убогой улице пятиэтажного дома «научников» (там жили сотрудники университета), так называемом «заднем», за гаражами я упал в скользкую грязную лужу и пропорол осколком бутылки всю свою ладошку наискосок (шрам белеет зимним руслом и до сих пор).
Домой меня привели как жертву автокатастрофы – всего перепачканного красным.
Темную кровь, текущую из руки было никак не унять.
Бабушка промывала мне рану в тазу с теплой водой. Она вообще-то страшно боялась не только вида, но даже упоминаний о ранениях крупнее царапины. Она тихонько причитала, хотя все «внутренние» болезни лечила с упоением.
Вода розовела и превращалась совсем в красную.
Я сам себе казался воздушным шариком, из которого через отверстие раны куда-то неудержимо выходит воздух, а следом за ним с бумажной ленточкой на лбу – и душа.
Я вот-вот должен стать вовсе легким и совсем кончиться.
Я шепчу об этом «конце» на ухо склонившейся надо мной бабушке.
Ей делается дурно, и она оседает, как-то сползает на пол, будто вся превратилась в тесто.
На кухню зашел мой решительный военный отец. Он приехал тогда в отпуск издалека, из Германии, а так я видел его нечасто. Он ловко перехватил мою руку веревочным жгутом повыше запястья, в том месте, где мне так хотелось носить часы (лучше «хронометр») и куда я украдкой прилаживал плоский серый голыш с выцарапанным циферблатом.
Он тащил меня почти бегом по вечереющим улицам, задирая мою руку, наскоро им перебинтованную, «по-фронтовому» вертикально вверх, в приемный покой ближайшей больницы.
Из-под бинта сыпался снежком толченый стрептоцид.
Мне казалось, что папа спешит со мной, как безупречный бегун-олимпиец с живым факелом.
Больница называлась «советская такая-то», но «такой-то» номер я теперь не припомню. Туда, пока строгая медсестра марала опросный листок и мы ожидали своей очереди, помню, привезли говорливую безумную девицу, она курлыкала как голубь, прижимая к груди черную вышитую сумочку и, заигрывая с папой, поправляла, как Офелия, венок из бумажных роз в всклокоченных волосах, а следом ввели полуголого пьяного парня, трагического, как Гамлет, избитого в кровь, он был весь в сизых татуировках, как в доспехах или в переводных картинках, рядом с ним все торчал тумбой толстый красномордый милиционер.
Хорошо, что бабушки не было с нами рядом. Она еще раз упала бы в обморок. Или просто превратилась в облако.
Там-то, в тихой выгородке, в чистом закутке приемного покоя, за белыми-белыми простынными ширмами, в слепяще ярком по-театральному свете операционной лампы я и узрел себя самого, в смысле – свое чуточку приоткрытое нутро, когда мне две врачихи обрабатывали и сшивали рваную рану маленькой кривой, как рыболовный крючок, иголочкой и завязывали в узелки белые ниточки штопки, стягивающие края разреза.
Обрезки забавно из меня торчали, как будто я стал плюшевым, но внутри меня вовсе не опилки, а вот это все... о чем и думать страшно...
Я заглянул тогда сам в себя.
Я проник зрением под алую, приподнятую пинцетом изнанку своего тела, словно за кулису, за границу поверхности, словно зверь в нору, и не мог отвести взгляда от этого своего пупырчатого, тускло блестящего суверенного нутра, от его бесконечного кошмарного лабиринта, удаляющегося куда-то вперед.
Сделай туда один шаг, я заблудился бы внутри себя как Тезей или мальчик-с-пальчик, и мне показалось, что взором я забрался в себя самого, в свою живую чувствующую утробу, как в темный лес, как в лабиринт, слишком вовнутрь, столь глубоко – как нож, осколок стекла или храбрый герой, – что задохнулся от неожиданного ужаса и нахлынувшего следом омерзения.
Как мне жить дальше с этим ошеломляющим открытием?
С тем, что я есть и внутри себя самого.
Прямо на идеально белую пустыню перевязочного стола и на страшный веер блестящих хирургических инструментов, разложенных тут же, я выблевал рыжее пахучее облако непереваренного обеденного месива.
Мне придется в дальнейшем брезговать и самого себя.
Разлюбить свое замечательное тело.
Возненавидеть свое дыхание.
Ужасаться тому, что брезговать меня неукоснительно учили с малолетства...
И больше ничего я не помню.
Это томящее чувство, сдавившее плотным обручем мой тогдашний детский ум, охватившее мрачным нимбом мою глупую голову и повлиявшее на все мое будущее, было совсем другого, особенного, запредельного происхождения, не имеющее к похоронам, к внутренностям насекомых и покойникам нашей улицы совершенно никакого отношения.
Ведь никто не умрет.
Ни мама, ни бабушка, никто.
Этого не может случиться.
...я сейчас пойду хоронить кузнечика...
Я присел на дворовую скамейку.
И кажется, мне удалось разглядеть и в себе самом такой же нарядный и чудный секрет, такой же, как и в моем спичечном коробке, оттопыривающем кармашек штанов.
Мне и теперь мнится, что нечто подобное тихо и лучисто происходит в закрытой на ключик дарохранительнице, где хранится чаша с облатками для причастия.
Там сияющий Христос размером с личинку!
И если приглядеться еще зорче, то в сердце одномоментно войдут, сияя, все благочестивые сцены Святого писания...