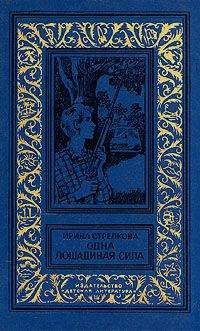Лев Правдин - Область личного счастья. Книга 1
Прибежали из школы сыновья. Еще на улице они узнали, что приехал отец, и поэтому очень торопились. Было слышно, что приближаются мальчишки горластые, стремительные, жизнерадостные. Но все это осталось за порогом. В дом вошли два самых примерных мальчика, если только примерные мальчики походя валяются в снегу и сбивают на затылок меховые ушанки. Им дали веник и прогнали стряхивать снег.
Потом они вошли строгие, подтянутые, как и полагается мальчикам при виде живого героя своих необузданных мечтаний.
— Знакомься, Виталий, мое потомство, — Иван Петрович присел и, обнимая сразу обоих сыновей, подтолкнул их к Корневу: — Вот они у меня какие!
Корнев протянул им руку как большим.
— Михаил, — четко произнес старший, вытягиваясь по-военному.
Ему было девять лет, и он понимал значительность момента. Ведь он первый в поселке пожал руку героя. Этим не сумеет похвалиться ни один из его товарищей.
Младший, Ваня, ничего такого не понимал. Он только осенью пошел в первый класс и еще продолжал принимать слова и события в их прямом значении. Но так как взрослые часто не учитывали этого и их слова расходились с его понятиями, то он иногда не доверял им.
Мама вчера сказала, что скоро приедет папин друг, который был на фронте, фашисты его ранили, и поэтому, когда он будет у них жить, надо вести себя хорошо, не шалить и не плакать.
Ваня ожидал увидеть богатыря, окровавленного, в повязках, но все еще полного сил, а тут стоял человек ростом меньше отца, бледный, исхудавший и никаких ран у него что-то не заметно.
В сердце мальчика вкралось сомнение. Он нехотя вложил свою руку в протянутую ладонь и вздохнул, заподозрив обман.
Отец выпрямился и, положив большие руки на стриженые головы мальчиков, ласково оттолкнул их:
— Ну, бегите.
Они отошли к столу и оттуда наблюдали, каждый по-своему воспринимая события. Оба с сердечным замиранием ждали от необычного гостя каких-то необыкновенных поступков. Но ничего особенного не произошло. Все оказалось до обидного просто. Виталий Осипович снял в кабинете отца китель и в обыкновенной белой рубашке пошел умываться.
Сомнения точили бесхитростное сердце Вани.
— Миша, — спросил он шепотом, — а где у него раны? Ведь должны же быть.
Старший отрывисто ответил:
— Не видно. Под рубашкой, наверное. А может быть, на ногах.
— Тогда бы он хромал… Кровь была бы.
Старший молчал.
— Это и не герой вовсе… А? Миша? — разжигал свои сомнения маленький Ваня.
Но Миша одним ударом сразил все сомнения:
— А ордена? — спросил он. — Видел, сколько?
Мальчики не заметили ни угластых лопаток, что ходят под рубахой героя, ни теней вокруг его глаз, ни строго сведенных бровей. Это заметила их мать. Она, не сдержав жалости, провела мягкой своей рукой по его спине:
— Эх, человек, человек…
Иван Петрович засмеялся:
— Ну, теперь считай, пропал ты, Виталий. Она тебя под страшную казнь подведет. Кормить ежеминутно будет…
— Не пугай. Как-нибудь переживу.
— Да уж придется. А ты не робей. Я тебя не дам в обиду: так прижму на работе, спать забудешь. Ты, дроля, не делай страшные глаза.
Валентина Анисимовна, подавая гостю полотенце, посмотрела на мужа с укоризной.
— Очень тебя глазами застращаешь. А со своей работой не торопись. Вот человек поживет, осмотрится да отдохнет. Он, гляди-ка, наработался — настрадался.
— Командир, — засмеялся Иван Петрович. — Вот она как тут командует…
Виталий Осипович вернул полотенце хозяйке и сказал ей:
— А Иван все-таки прав. Работать надо. Без дела я пропаду. Вы это понимаете.
— Я понимаю. Только если человека не кормить, мало от него толку. Ну, идите за стол.
А за столом, как и полагается при встрече, выпили и начали вспоминать годы, прожитые вместе, и рассказывать, что произошло с каждым в отдельности.
Дружбе их насчитать можно было лет пятнадцать. В то время они называли друг друга Иван и Витька, Иван был постарше. Вместе валили лес в камской парме-тайге. Вместе пошли на курсы десятников. Сидели за партами, один — кряжистый, здоровенный, другой — поменьше, но тоже — не попадайся под горячую руку. Лохматые, упорные, нелюдимые, ошалевшие от городского шума.
Нехитрую науку постигли без труда. Виталий сказал:
— То, чему здесь учат, мы давно уже забыли. Пойдем, Иван, дальше.
Пошли дальше, на курсы механизации лесоразработок. Потом потянуло в лесной техникум. И здесь пришлось им расстаться. Виталий уехал в строительный институт, а Иван остался в техникуме доучиваться.
На этом, казалось бы, и конец дружбе. Разъехались — и забыли один другого.
Нет, незабываема та дружба — без частых писем, условных встреч и душевных разговоров под звон стаканов. Незабываема дружба, если она таится где-то глубоко в сердцах и довольно намека одного, чтобы она, дружба эта, сказала свое мужественное короткое слово.
Началась война. Виталий Осипович командовал саперным подразделением. Был расчетлив и смел. Не совался в воду, не найдя броду, знал, где придется упасть, и успевал подостлать соломки, а в то же время был уверен, что смелость города берет.
Воевал самоотверженно, получал ордена и уже помышлял о форсировании германских рек и штурмах вражеских городов. Он рвался в Германию со всей ненавистью, со всей злобой глубоко оскорбленного человека.
В Германии томилась его невеста. Ее увезли туда насильно, как увозили многих русских девушек.
Он лишился покоя. Сидеть на месте не мог. Надо было идти, бить их, бить и снова идти. Ведь она там, в зачумленном, зловонном логове, его чистая, кроткая Катя.
Только движение приносило ему покой. При форсировании одной реки он проработал ночь в ледяной воде и первым вывел свое подразделение на противоположный берег. Здесь он был ранен. На ампутацию не согласился, хотя левая рука, страшно распухшая, казалась совершенно безнадежной. Он должен вернуться на фронт. А как он вернется туда безрукий?
Но и с двумя руками на фронт его уже не пустили. Он брал приступом не менее яростным, чем на фронте, различные воинские инстанции, но ничего не помогало: не годен. Тогда он смирился. Но спасение — только в движении. Надо работать. Он приехал в Москву и там встретил Дудника, старого своего друга.
Они обнялись. Поехали в гостиницу к Ивану Петровичу. Рассказали друг другу все, что надо рассказать, а что осталось не сказано, то было и так понятно.
— Ишь ты какой, — сказал Иван Петрович, разглядывая друга своего, словно впервые его увидел.
Виталий Осипович обреченно улыбнулся:
— Да, брат, вот я какой…
— Знаешь что? Поедем ко мне. Чего тебе здесь околачиваться. Там у нас в тайге воздух! Помнишь?
Виталий Осипович расправил плечи, вскинул голову, на которой буйные начали отрастать волосы, и крикнул хрипловато, как давно когда-то кричал в лесу:
— Бойся!
Так — помнил он — лет пятнадцать назад предостерегающе кричали лесорубы, сваливая неохватную сосну. Со свистом она рассекала воздух и падала, ломая сучья.
— Помнит! — захохотал Иван Петрович. — Не забыл!..
— А что я буду у тебя делать? — спросил, все еще улыбаясь, Виталий Осипович.
— Технорука у меня на фронт забрали. Один кручусь.
— Так ведь я — строитель.
— Чепуха! Ты лесовик. Техника у нас, сам знаешь, какая. Освоишь!
Он ходил по холодноватому гостиничному номеру, широкий, кряжистый, исподлобья поглядывая на друга. На его лице, обожженном северными морозами и северным солнцем, под которым и зимой загорают не хуже, чем в Ялте, шевелились жесткие усы. Все было надежно и крепко в этом человеке. Надежный друг и бывалый таежник.
Глядя на него, Корнев постепенно успокаивался. Неторопливые, уверенные движения друга, его походка, басовитый голос, запах свежей смолы, исходивший от его полушубка, — все напоминало о тайге.
И показалось Корневу, что вновь он в лесу, в дремучей парме. Это было не мгновенное ощущение, которое вдруг набежит, как случайное облачко в знойный день. Каждый раз, когда он вспоминал свои годы, проведенные в тайге, ему казалось, будто он идет тайгой по скользкой рыжеватой хвое, что наслаивается годами, а кругом отлично пахнет нагретой зноем смолой, свежей сыростью мха и скудными таежными травами. И вдруг с вырубки потянуло кисловатым запахом сваленных деревьев и гарью недавних костров. А кто хоть раз узнал, как пахнет горящая хвоя, кто слыхал летучий треск лесорубного костра, и тонкий свист ветвей стремительно падающей сосны, и гулкий удар ее о землю, и предостерегающий возглас лесоруба: «Бойся!» — забудет ли он тайгу?! Может ли забыть человек, хоть однажды сваливший вековую сосну, гордое, торжествующее чувство власти человека над природой?