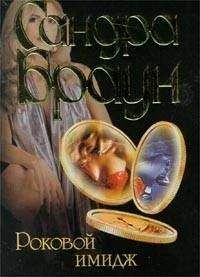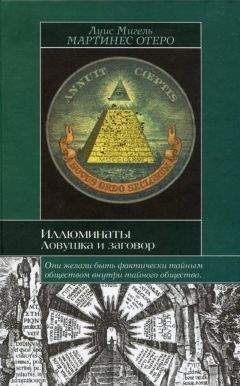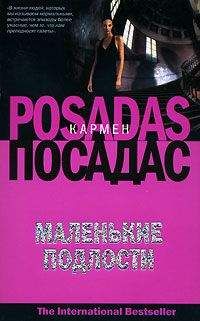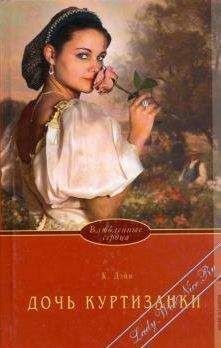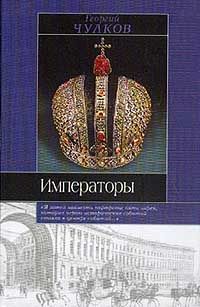Кармен Посадас - Прекрасная Отеро
Единственно по этой причине я намного дольше, чем желала бы, должна была поддерживать бесчисленное множество мифов. Однако теперь с этим покончено: с того весеннего дня я почувствовала себя вправе освободиться от всех биографических прикрас, необходимых в свое время. В тот день умерла Нина Отеро с романтическим детством, обрисованным мной в мемуарах, которые я продиктовала в 1926 году мадам Клод Вальмон. Надо сказать, ценность этой биографии невелика – не столько из-за искажений, сколько из-за умолчаний. Однако могла ли я поступить иначе? В 1926 году еще были живы многие, кому серьезно повредили бы некоторые мои признания. И я тоже была тогда в их числе, до тех пор пока не скончалась в 1948 году по воле «Эспуар де Нис».
Так что теперь, когда исчезла вся эта мишура, я могу с облегчением признаться, что все рассказанное мной о моем происхождении было абсолютной ложью. Я не андалуска и вовсе не дочь цыганки Карменситы (копии героини Мериме) и греческого офицера по фамилии Карассон, познакомившихся в Севилье.
Как меня смешило в годы моей славы, что люди готовы были безоговорочно верить всем этим выдумкам, звучавшим так «правдоподобно»!
«Читатель, – писал Хоакин Бельда, еще один мой биограф, – как бы неискушен ты ни был в общении со знаменитыми женщинами, все же, наверное, верил их словам, когда они непринужденно заявляли, что «происходят из очень хорошей семьи». В большинстве случаев это не более чем милая фантазия. Что касается испанских куртизанок, то в лучшем случае их генеалогическое древо восходит к славному служащему Гражданской гвардии, что, конечно же, заслуживает уважения, но не обеспечивает места среди европейской аристократии. Отеро же, напротив, чужда этого тщеславия: взращенной собственным талантом, ей незачем отрекаться от своего происхождения».
Я и не отрекалась, просто лишь немного «приукрасила» свое прошлое, чтобы сделать его более правдоподобным. Намного легче верили тому, что я дочь цыганки из Андалусии и офицера по фамилии Карассон (ничуть не похожей на греческую), чем правдивым сведениям, о которых я расскажу в дальнейшем. Столь же правдоподобно, по-видимому, звучит и выдумка о том, что после знакомства с Карменситой в Севилье мой обожаемый «отец» увел свою возлюбленную из цыганского табора и, чтобы уберечь от множества искушений, привез ее в Вальгу, деревушку близ Понтеведры. В Галисии по вине эксцентричных прихотей моей матери, по-прежнему остававшейся «вольной птицей», папа пристрастился к игре (тот факт, что жертвой этого порока была и я сама, придает рассказу о моем отце еще больше правдоподобия). Однако вернемся к нашей истории. Потом, рассказывала я, папа Карассон разорился, а неисправимая Карменсита нашла утешение в объятиях богатого любовника. Два года спустя, когда эта связь была раскрыта, он убил моего отца, вызвавшего его на дуэль.
«[…] За несчастьем последовали долгие дни безутешного траура и неизбывного отчаяния», – продиктовала я в 1926 году своему биографу – энергичной и одновременно сентиментальной мадам Вальмон. «Теперь этот период жизни, – продолжала я идеально ностальгическим тоном, столько раз отрепетированным перед журналистами и любовниками, – кажется мне глубокой и темной бездной, где скрыты воспоминания о нищете и унижениях. Из нашего дома все забрали за долги, и кредиторы папы продали немногие остававшиеся у нас ценные вещи – мебель, произведения искусства, посуду, серебро…»
Подобная история была не редкостью в те времена, и она легко сходила за правду. Должна признаться, что для ее создания я использовала реальные события: все рассказанное мной выше было соткано из лоскутков различных криминальных хроник – популярнейшего в начале века газетного жанра, превратившего в легенду таких убийц, как Ландру или Джек-потрошитель. Тогда были другие времена.
До этого момента все было совершенно нормально, но затем я решила внести в свой рассказ побольше драматизма. Помню выражение лица мадам Вальмон, когда она услышала то, о чем я собираюсь рассказать сейчас. У моего биографа была манера взволнованно теребить свою шляпу каждый раз, когда она слышала что-нибудь необыкновенное (мягко говоря, не очень изысканная привычка). Возможно, другая женщина на моем месте, столь же искушенная в искусстве себя вести, обязательно подсказала бы ей, насколько нелепа манера играть перьями или вуалью шляпы. Наверное, хотя бы в благодарность за ее доверчивость следовало сказать, что даже в самых отчаянных случаях даме не следует теребить свою шляпу. «Не делайте этого, дорогая, c'est très vulgaire, это очень вульгарно», – должна была бы посоветовать я, но не сделала этого. Как я понимаю теперь, именно эта ее привычка разжигала во мне желание «поддать жару», и я нарочно стала сгущать краски:
«После смерти папы моя мать, предоставленная самой себе, постепенно вновь превратилась в прежнюю цыганку. Ее характер ожесточился из-за горя и нищеты, и она обращала внимание на своих детей лишь затем, чтобы под любым предлогом ударить или обругать нас. Безответственная и слабая, мать не заботилась ни о чем, и мы, ее дети, жили без присмотра, без ласки и доброго совета – хуже, чем беспризорные уличные дети. То ли любовник все же любил ее, то ли в нем проснулась жалость, неизвестно, но однажды мы узнали, что мать собирается выйти замуж… за убийцу нашего отца! Мы были еще совсем детьми, я и моя сестра-близнец (да-да, я выдумала еще и сестру-близнеца – мне казалось, это звучало интригующе; жаль, что потом я не стала развивать эту линию: можно было бы хорошо сыграть га том, что где-то на земле живет мой двойник), – продолжала я, к удовольствию мадам Вальмон, – нам не было еще и десяти, но я хорошо помню, какое негодование нами овладело, когда мы узнали, что убийца отца собирается войти в семью, им же разрушенную. Ненависть детей обратилась против матери и ее нового мужа, и атмосфера в доме стала накаляться. Испанская гордость – не пустые слова, и мои братья знали, что «трус» – оскорбление, которого не стерпит ни один испанец. В тот же вечер, когда мать объявила, что в нашем доме будет жить ее новый муж, старшие братья исчезли. Их приютил из сострадания друг отца, и вскоре они уехали в Америку, где неплохо устроили свою жизнь. В проклятом доме с новым хозяином остались лишь мы с младшей сестрой, потому что моя сестра-близнец поселилась у родственника отца, взявшего на себя заботу о ее образовании, а младшего брата поместили в колледж-интернат».
С этого момента было несложно продиктовать моему милому биографу окончание этой истории, потому что я уже делала эти «признания» то здесь, то там: в интервью светским журналам и в выступлениях перед моими верными почитателями, стараясь не допускать расхождений. Замечу, что для лжеца важнее всего иметь безупречную память (к счастью, я могу этим похвастаться) и рассказывать всегда одну и ту же историю. Не выдать себя, хотя бы иногда, просто невозможно. Со мной это случалось не раз, позднее вы это заметите.
«И тогда для меня началась настоящая голгофа, – рассказывала я мадам Вальмон, убеждаясь по движениям шляпы, что история оправдала все мои ожидания в плане правдоподобия и драматизма. – Случилось нечто странное, – вдохновенно продолжала я, – моя мать, которая должна была бы полюбить двоих детей, оставшихся с ней, стала, наоборот, ненавидеть меня, видя во мне причину всех своих несчастий. Она будто превратилась в мачеху для собственной дочери. Я всегда любила свою мать, возможно, тогда даже больше, чем когда-либо прежде, потому что она напоминала мне об отце. Хотя ее несправедливый гнев, постоянные упреки и почти болезненная озлобленность делали меня несчастной, я молчала и страдала без слов. Но однажды мой независимый и гордый нрав одержал верх, и я взбунтовалась…
Привыкнув к внешней покорности, мать была ошеломлена моим бунтом и не могла его стерпеть. Через несколько дней она решила избавиться от меня и сказала, что мне следует уехать из дома и поступить в интернат недалеко от Вальги. Ее решение оставило меня равнодушной: я думала, что нигде не будет хуже, чем дома. Я ошибалась. Вскоре, однако, я убедилась, что несчастью, так же, как и глупости, предела нет…»
И я рассказала мадам Вальмон, как в том колледже для девочек, куда меня отправили, я стала жертвой всяческих унижений со стороны хозяек – неких Пепиты и Хуаниты, заставлявших меня работать на них, как служанку. Рассказывая, я сильно – по-андалусски (как считали французы) – жестикулировала, чтобы придать истории больше драматизма, и заметила, как перья на шляпе мадам понимающе закивали. Было несложно поверить в то, что я была помещена в колледж-интернат для девочек, где мне пришлось сносить издевательства и унижения: физические наказания были привычным делом в школах девятнадцатого и даже двадцатого века – мне это прекрасно известно, хотя у меня никогда не было детей.