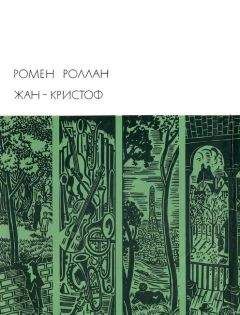Агота Кристоф - Вчера
А вот Йоланду я встретил, покупая себе носки. Черные, серые, белые теннисные. Я не играю в теннис.
В первый раз я счел Йоланду просто красоткой. Сколько грации! Показывая мне носки, она изящно склоняла головку, она улыбалась, она почти танцевала.
Я заплатил за носки и спросил ее:
— Можно ли увидеться с вами в другом месте?
Она глупо рассмеялась, но мне ее глупость была безразлична. Меня интересовало только ее тело.
— Подождите меня в кафе напротив. Я кончаю в пять часов.
Я купил бутылку вина и стал ждать ее в кафе напротив, со своими носками в пластиковом пакете.
Вскоре появилась Йоланда. Мы выпили кофе и пошли к ней.
Она прекрасно готовит.
Йоланда может показаться красоткой тому, кто не видал ее при пробуждении.
Тогда это всего лишь маленькое помятое существо с обвисшими волосами, расплывшимся макияжем и черными разводами туши вокруг глаз.
Я смотрю ей вслед, когда она идет в ванную: ноги у нее тощие, ягодиц и грудей почти нет.
Она торчит в ванной не меньше часа. Когда она выходит оттуда, перед вами снова красотка Йоланда — свеженькая, хорошо причесанная, умело накрашенная, ставшая на десять сантиметров выше благодаря своим каблучкам. Йоланда с ее улыбкой. С ее глупым смехом.
Обычно я возвращаюсь от нее домой поздно вечером в субботу, но иногда мне случается заночевать у нее; тогда утром в воскресенье мы завтракаем вместе.
Она бежит за рогаликами в дежурную булочную, в двадцати минутах ходьбы от ее дома. Потом она варит кофе.
Мы едим. Затем я иду к себе домой.
Чем занимается Йоланда по воскресеньям после моего ухода? Понятия не имею. Никогда у нее не спрашивал.
Ложь Самая моя забавная ложь среди всех — это когда я сказал тебе, что мне безумно хочется вновь увидеть родину.
Ты растроганно заморгала, ты прокашлялась, пытаясь найти понимающие, утешительные слова. За весь вечер ты ни разу не позволила себе рассмеяться. Да, я правильно сделал, поведав тебе эту басню.
Вернувшись домой, я зажег свет во всех комнатах и встал перед зеркалом. Я вглядывался в себя до тех пор, пока мое отражение не начало расплываться, становясь неузнаваемым.
В течение многих часов я ходил по комнате. Книги мои безжизненно валялись на столе и на полках, постель — слишком уж чистая — совершенно остыла; даже речи быть не могло, чтобы улечься в нее.
Близился рассвет; окна домов напротив чернели, как дыры.
Я множество раз проверил, заперта ли дверь, затем попытался думать о тебе, чтобы заснуть, но ты витала серой тенью, ускользающей, как и все мои другие воспоминания.
Как черные горы, которые я переходил некогда, зимней ночью; как комната на разоренной ферме, где я проснулся однажды утром; как современная фабрика, на которой я тружусь вот уже десять лет; как до смерти надоевший пейзаж, на который больше глаза не смотрят.
Вскоре я передумал обо всем на свете — кроме тех вещей, о которых я думать никак не хотел. Мне бы всплакнуть, хоть слегка, но я и этого не мог, ибо у меня не было никакого повода для слез.
Врач спрашивает меня:
— Почему вы выбрали имя Лина для женщины, которую ждете? Я отвечаю:
— Потому что мою мать звали Линой и я ее очень любил. Мне было десять лет, когда она умерла. Он просит:
— Расскажите о своем детстве.
Ну так и есть, этого я и ждал. Мое детство! Все они интересуются моим детством.
Но я не дурак, я давно научился отвечать на эти идиотские расспросы. Для каждого такого случая у меня было припасено готовенькое детство, идеально отработанная ложь, к которой я прибегал уже много раз. Я рассказывал это Йоланде, редким своим друзьям и знакомым; ту же историю я когда-нибудь поведаю и Лине.
Итак, я — сирота, жертва войны. Родители мои погибли во время бомбардировки. Из всей семьи выжил только я один. У меня не было ни братьев, ни сестер.
Я вырос в сиротском приюте, как и множество других детей того времени. В возрасте двенадцати лет я сбежал оттуда и перешел границу. Вот и все.
— Это все?
— Да, это все.
Не буду же я, в самом деле, рассказывать ему свою подлинную историю!
Я родился в безымянной деревушке, в безвестной стране.
Моя мать, Эстер, была деревенской нищенкой и спала со всеми мужчинами подряд, в основном с крестьянами, которые расплачивались с ней мукой, кукурузой, молоком. Еще она собирала овощи на полях, воровала фрукты в садах, не брезговала куренком или утенком во дворе какой-нибудь фермы.
Когда крестьяне резали свиней, они оставляли для моей матери самые скверные обрезки, требуху или другие отбросы, все, что деревенские сами не едят.
Ну а нам все годилось.
Моя мать была воровкой, попрошайкой, деревенской шлюхой.
А я сидел перед домом и играл с глиной — лепил из нее огромные фаллосы, груди, ягодицы. Из этой красной глины я вылепливал также тело моей матери и тонким детским пальчиком проделывал в нем отверстия. Рот, ноздри, глаза, уши, пупок, дырка внизу спереди, дырка внизу сзади.
У моей матери было полно дырок, как и в нашем доме, в моей одежке и башмаках. Дырки в башмаках я залепливал жидкой глиной.
Я проводил жизнь во дворе.
Когда я замерзал, хотел есть или спать, то шел в дом, отыскивал что-нибудь съестное — жареную картошку, вареную кукурузу, простоквашу, иногда хлеб — и укладывался на соломенный тюфяк рядом с печкой.
Дверь комнаты почти всегда была открыта, чтобы туда шел жар от печки. И я видел, я слышал все, что там творилось.
Моя мать забегала в кухню, подмывалась над ведром, вытиралась краешком полотенца и шла обратно в комнату, спать. Она почти не разговаривала со мной и никогда не целовала.
Самое удивительное — это то, что я был единственным ребенком. До сих пор не пойму, как мать ухитрялась избавляться от своих последующих беременностей и почему она оставила именно меня. Может, я был ее первым огрехом. Между нами семнадцать лет разницы. Вероятно, потом она научилась делать так, чтобы не попадаться или Благополучно вытравлять плод.
Я помню, что ей случалось проводить в постели много дней подряд, и тогда вокруг нее валялись окровавленные тряпки.
Разумеется, все это меня совершенно не занимало. Могу даже сказать, что у меня было счастливое детство, поскольку я и не подозревал, что детство может быть другим.
Я никогда не ходил в деревню. Мы жили возле кладбища, на самой околице, в самом последнем доме. Мне радостно было играть во дворе, возиться в грязи. Иногда небо сияло чистотой, но я больше любил ветер, дождь, облака. Дождь облеплял мне мокрыми прядями лоб, глаза, шею. Ветер сушил мне волосы, ласково трепал по щекам. Облачные чудища рассказывали о неведомых странах.
Зимой мне приходилось туже. Я любил и снежные хлопья, но не мог долго оставаться на улице. У меня не было теплой одежды, и я сильно мерз, особенно зябли ноги.
К счастью, в кухне всегда было тепло. Мать собирала коровьи лепешки, сушняк, всякий мусор и разводила жаркий огонь. Она не переносила холода.
Иногда какой-то мужчина, выйдя из комнаты, задерживался в кухне. Он долго разглядывал меня, гладил по голове, целовал в лоб, прижимал мои руки к своим щекам.
Мне это не нравилось, я боялся его, я дрожал. Но не осмеливался оттолкнуть его.
Он приходил часто. Но это был не крестьянин.
Крестьян я не боялся, я их ненавидел, презирал, они внушали мне отвращение.
А этого человека, что гладил меня по голове, я снова встретил в школе.
В деревне была только одна школа. Учитель давал уроки одновременно ученикам всех классов, вплоть до шестого.
В честь первого школьного дня мать вымыла меня, чисто одела и постригла. Она и сама приоделась как могла. Потом она отвела меня в школу. Ей было только двадцать три года, она была красива — самая красивая женщина в деревне, — и я стыдился ее.
Она сказала мне:
— Не бойся. Учитель очень добрый. И ты его уже знаешь.
Я вошел в класс и сел на переднюю парту. Как раз напротив учительского стола. Я ждал. Рядом со мной села девчушка, не очень красивая, худенькая и бледная, с косичками, торчащими по сторонам маленького личика. Взглянув на меня, она сказала:
— А ты носишь куртку моего брата. И башмаки на тебе тоже его. Как тебя зовут? Меня — Каролина.
Тут вошел учитель, и я сразу его узнал. Каролина сказала:
— Это мой отец. А там, сзади, где старшие, сидит мой брат. А дома у нас есть еще младший братик, ему только три года. Моего папу зовут Шандор, он здесь самый главный. А твоего отца как зовут? Кем он работает? Крестьянином, наверно. Здесь все крестьяне, кроме моего папы.
Я ответил:
— У меня нет отца. Он умер.
— А! Как жалко. Не хотела бы я, чтобы мой папа умер. Но ведь сейчас война, и скоро умрет много людей. Особенно мужчин. Я сказал:
— Я не знал, что сейчас война. А может, ты врешь?
— Я не врунья. Про войну каждый день говорят по радио.
— У меня нет радио. Я даже не знаю, что это такое.
— Ну и дурачок же ты! А как тебя зовут?
— Тобиаш. Тобиаш Хорват. Она засмеялась: