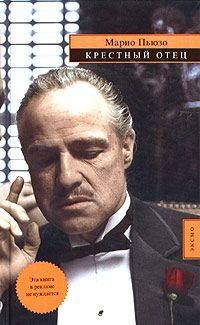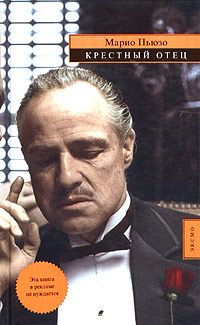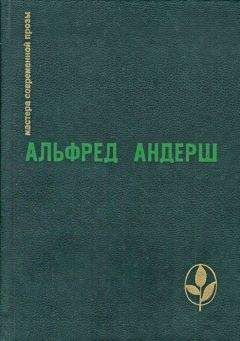Алла Боссарт - Рассказы
Цэйтлин – человек цели. Уходу жены не придает большого значения и считает, что в любой день она может вернуться, что и правильно. Они жили врозь уже полгода, но когда у Володи (Зеева и сенсея) праздно спросили, как у него с личной жизнью, он закричал, напрягая горло: “Что значит с личной жизнью! У меня жена!” Он имел русые рязанские волосы, широкий тупой нос и язвительный рот.
Очень серьезный человек Володя (Зеев) Цэйтлин. Начал писать детективный роман. Каждую главу показывал Гаврилову и страстно внушал: “Ну Боб, ну давай прикинем дальше!” Его траурные глаза светлели и плавились, как лед. “Интрига где?! Нет же интриги!” – всякий раз кричал в ответ Гаврилов, а Веруня в соседней комнате смеялась, морщась от боли.
Детектив Цэйтлин написал. Не высокая литература, но вот как сядешь, так и не встанешь, пока не прочтешь. Метростроевец один нашел портфель, а в нем – схема подземных ходов, и там своя жизнь с выходами в подвалы Лубянки… Ну, круто. Гаврилов бил
Цэйтлина по плечам, наливал водки и искренне восклицал: “Вовка – величайший мужик! Что мы перед ним? Что ты перед ним?!” – орал он Чернову, сотруднику издательства, автору двух десятков тонких книг для детей типа: “Веселые похождения Ластика и Кляксы”, допустим.
Без тени досады или зависти Гаврилов восхищался Вовкой Цэйтлиным и квасил с ним ночь напролет в душевном ненастье, когда всякая надежда на публикацию романа бесповоротно отпала.
“Наш роман”, – великодушно говорил симпатяга Цэйтлин.
“Наш роман”, – великодушно соглашался симпатяга Гаврилов.
Температура била изнутри, как язык в стены колокола. При каждом ударе с макушки до пят осыпал озноб. Напрягаясь, Гаврилов сквозь пелену всмотрелся в ряды смазанных лиц. Фокус искать не стал. Да и не к чему.
– Меня учили здесь пять лет, плюс аспиранутра, – объявил
Гаврилов. – Я знаю аэродинамику, как дорогу до ближайшего ларька. Пятнадцать лет я за каким-то хреном углы скольженья, рысканья и крена рассчитываю здесь…
В аудитории одиноко заржали. Поэтический фрагмент выскочил опять же случайно, обескуражив Гаврилова. Смущенно он продолжал:
– А между тем, старики, мне охота писать детективы, хотя я для этого, видать, не гожусь. Двадцать лет назад я думал, что гожусь для авиации. Мы, подростки пятидесятых, практически все были романтиками. Но романтика достается не нам, не нам… Одно дело сказать: “При появлении крена летательный аппарат начинает скользить в сторону опущенного крыла, но возникающий при этом момент, зависящий от угла скольжения, стремится восстановить горизонтальное положение поперечной оси летательного аппарата”.
И совсем другое дело, старики, это ош-чу-тить. Ни разу, ни-ра-зу не пилотировал я самолет. Я и дельтаплана-то в глаза не видел.
Не говоря уж об изобрести…
Саднило в глазах. Полета, между прочим, хотелось по-прежнему.
Свободного парения на двойном парусе дельтаплана, опираясь на ветер. Бородатые мужики, как мальчики с зонтиками, прыгают со скал, перекрестив себя сложной сбруей, и за их спинами гудит тугое крыло в форме латинской буквы, гудит, как колокол, в который бьет язык воздушного потока. Вероятно, человеческая природа ош-чуш-чает это типа как счастье.
3
Ромаша настроен миролюбиво. От природы он замысливался веселым и общительным человеком, но обстоятельства судьбы развили в нем гордость и сдержанность чувств. Нет, он любил поорать и побесноваться среди гостей. Но другой раз такой накатит строгий сумрак, – что у Светки аж западало жалостное ее сердце. Вон ведь
– радость так прямо и блестела в каждой снежинке, когда она бежала, таща санки, и ликующе кричала что-то нечленораздельное.
Пока не оглянулась. Ромаша неподвижно сидел, закованный в шубу, и лицо его выражало скорбь. Светка испугалась:
– Ты чего?
Ласково и серьезно трехлетний Роман предложил:
– Пойдем вообще-то домой. Ты не пьотив? Или хочешь еще погулять?
В такие минуты Светке рисовался главный ужас: вот Гаврилов женится. Сам Гаврилов в футляре своих сорокалетних привычек думал о браке с содроганием. Но именно в такие минуты, когда жалость особенно давила на диафрагму, он панически убеждал себя:
Роме нужна мама!
Со Светой Романа связывала равноправная сдержанная дружба. Без тени, разумеется, той болезненной страсти, с которой он рвался к отцу. В отношениях со Светкой был покой, потому что Ромаша не боялся ее потерять.
– Ты чем меня вообще-то накоймила? – ругался он, пришлепав на кухню в пижаме. – Ты ж меня чуть не отъявила и на тот свет отпъявила!
Был грех. Света-халда угостила мальчика люля-кебабом из кулинарии. Дар Кавказа имел резкий экзотический вкус, и Ромка слупил изделие с жадностью беспризорника. Весь день его рвало, лицо стало вроде сырой известки, глаза запали и смотрели с тихой укоризной.
Гаврилов полночи печатал шаг по квартире, прижав сына к груди; завидя же Светку эту жалкую, цедил в строгой очередности: “Сука.
Блядь. Дубина.” И опять: “Сука…” А она, искупая страшное свое падение, стирала его рубашки, носки и кучу Ромашиных тряпочек.
“Роман Гаврилов” – было вышито на воротничках Веруниной рукой.
Чтоб не терялись в детском саду. Вот и Гаврилов боялся потерять
Ромку. А Ромка – Гаврилова. Каждый за кого-то боится. И только немолодую дубину Светку никто не боится потерять и не вышивает у нее за шиворотом: “Светлана Белкина, девушка без адреса”.
4
Свету выгнали из Дома моделей, с завидной работы. Главный художник там ходил в золотистых пиджаках, шелковых рубашках и шейных платках кислотных, как будут впоследствии говорить, цветов. От всего этого в сумме и так тошнило, а плюс еще пучился, как карась, и зализывал свои мерзкие волосы какой-то дрянью. Поддерживая репутацию кутюрье, главный художник осторожно покачивал бедрами – так, как бы невзначай, и с годами усвоил привычку, разговаривая с мужчинами, интимно класть руку им на грудь. Однако дальше этого не пошло, а вот вешалок своих, в толпе которых смотрелся как баскетбольный тренер, – передрал, сволочь, всех и не по одному разу. Долговязой модельерше, которую, впрочем, даже неопытный глаз безошибочно отбраковывал из толпы манекенщиц (до того нескладна), главный художник едва доставал до подбородка. Он держал руки в карманах и пальцем к ней не притронулся. Просто качался с носка на пятку и смотрел на верхнюю расстегнутую пуговку Светкиной кофты. И что же эта идиотка? Берет свой стакан (гуляли Восьмое мар та) – и на золотистую шелковую грудку этому Версаче весь свой яркий напиток “Каберне” – хлобысть! Они еще не были женаты с одним там Леней, но когда она впоследствии призналась ему в этом поступке, Леня справедливо отметил: “Дура”. Версаче постарался.
Который уж год эта халда Света мается без нормальной работы.
Однажды ей сосватали костюмы для спектакля “Иркутская история” в небольшом русском театре в Средней Азии. И она буквально в отчаянии оглянулась на свои двадцать шесть лет вне этой дикой жизни, без чокнутых артистов, без пыли костюмерной, жирного запаха грима и острого (аэродинамического) чувства полета, когда перед пустым залом проходишь через сцену.
Плоский, выбеленный солнцем город грозил скрюченными пальцами карагачей и воздетыми перстами минаретов с длинным изогнутым когтем на макушке. Вдоль раскаленных улиц бежали мутные арыки.
По обочинам сидели на корточках ласковые люди с глазами, словно щели в другую эпоху. Там тлели пепелища древних тюркских обсерваторий. На крыше филиала института мелиорации полыхала неоновая заповедь: “ВОДА – ЭТО ЖИЗНЬ”.
В театр здесь никто, конечно, не ходил, но труппа во главе с безумным сиротой Николаем Каликой жила неутомимо и самозабвенно.
У всех были очень маленькие ставки, и Николай Калика учредил коммуну. Коля с его беспризорной правдой был Светке понятней и ближе брата. Сухой и жилистый, словно корешок, собрав компанию таких же буратин, он без труда построил модель жизни неправдоподобно честной, раскрытой, единодушной, обреченной на вымирание. В его нравственном генотипе был заложен жертвенный пламень утопизма.
Между тем постановочная часть театра тихо издыхала. Светка и главный (опять-таки) художник Жора Кручинин работали вдвоем, без портных, столяров и бутафоров. Николаю Калике понравилась ее идея лоскутного вязания. Два месяца Света сидела среди громадных, как небольшие планеты, клубков из обрывков тряпья и вязала ватники, шапки, валенки, платья, штаны и плащ-палатки.
Никто, в том числе и она сама, не мог объяснить, почему надо одеться именно так. “Пульсирует!” – сказал Калика на первой репетиции в костюмах.
Два месяца она истребляла плоть. Почти не спала, не ела и жизни за своими тряпками не видела. И вот они глядят друг на друга, эти два психа, похожие как близнецы: крупные кости лица, облепленные незагорелой кожей, красные веки, острые носы – и