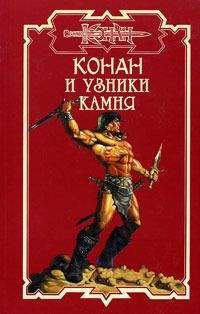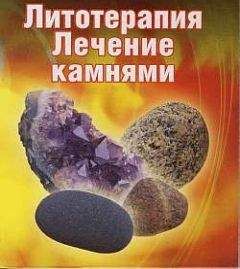Владимир Личутин - Беглец из рая
– Ты же знаешь, Зулус, я не пью. Мне врачи не велели.
– Не плюй в колодец, Паша. Со мной лучше не ссориться.
– Кто помер-то? – Я пытался обогнуть Зулуса и разглядеть фотографию, но мужик жестко выставлял руку перед самым моим носом, закрывая обзор. Граненый стакашек покачивался на толстой ладони, как обломок горного хрусталя, искристо-сочного, с голубым отливом в сердцевине и бусинкой кровцы, впаянной еще при зарождении минерала.
– А ты не ерестись, ты выпей, – угрозливо повторил Зулус и крюком полусогнутой длинной руки как бы залучил мою голову в петлю, заякорил, загнал в капкан. Я скосил взгляд: перед моими глазами смуглое предплечье бугрилось, как пудовая гиря, и по мышце, скоро набухая, потекли голубые ручьи, готовые прободить завяленную кожу. Бычья сила быстро сливалась в емкую посудину и хотела удушить меня. – Нынче только Христос не пьет, потому что у него руки приколочены, – насмехаясь, в самое ухо гундел Зулус, дыша махрою и перегаром. – А особенно на халяву чего не пить? На халяву только дурачок не пьет, а ты у нас шибко умный. Слышь? Пей, скотина, а не то силой волью. Волью, а ты крякнешь, хукнешь и другую попросишь налить. А я не дам. Я тебе скажу: иди на хрен, дармоед поганый.
И что мне оставалось делать, братцы? Белый свет стремительно померк в моей голове, а черная дурь ударила в виски. Сколько нашлось силы, я дернулся из объятий, не снеся насилия над собою, ударил костистою макушкой снизу вверх и угодил Зулусу по зубам: мужик охнул, отступил на шаг, удивленно разглядывая нахального комара, но тут же оступился в крохотную ямку (заросшую могилу), и нога, наверное, угодила в древнюю домовину и застряла в ней. Зулус качнулся и, не устояв, полетел на спину. А возле, слегка приподнявшись полозьями на кочках, лежала тракторная волокуша, рубленная из цельных сосновых кряжей, на которой, видимо, притянули на погост бетонный крест, а после и забыли за ненадобностью, как часто случается на Руси. Ей бы век и таиться здесь, обрастая лопушатником, потиху истлевать и трухнуть, утопая, погружаясь в прах, подобно гробовой колоде, да вот понадобилась для последнего смертного дела.
Странно, как в решительные минуты утончается человечий взгляд, как сполошливо лихорадочен, но и особенно пристален он, угадывая все наперед, что случится нынче, и, наверное, от сердечного напряга, от внутреннего испуга и тайного любопытства, с каким подмечается всякая мелочь, знание грядущего становится вещим, а само будущее, преодолевая невидимые границы, уплотняет время и пересекает границы, смещаясь назад.
Зулус лишь качнулся беспомощно назад, но я в эту секунду увидел и тракторный зубчатый след протекторов, похожий на глубокие рваные раны, и комья перевернутой кладбищенской глинки, и вязь травяных белесых кореньев, напоминающих скотские порванные жилы, и блескучие бревна волокуши с пролысинами желтой неободранной шкуры, и барошный гвоздь, торчащий из слеги, похожий на наконечник рыбацкой остроги, слегка тронутый кровцой свежей ржавчины. Зулус всей тяжестью громоздкого тела угодил именно на этот штырь, и тот, словно наконечник рогатины, насадил мужика, пронзил бедного насквозь, и конец его, как птичий клюв, выглянул из грудины. Взгляд Федора померк, как бы внутри человека вырубили свет, глаза покрылись тончайшей зеркальной поволокою, губы страдальчески задрожали, и в левый угол искривленного рта протекла тонкая алая струйка брусничного морса...
Безумье какое-то, братцы! Вот был человек, и нет его. Каких крохотных усилий достало, чтобы отнять чужую жизнь. Бред какой-то, право. И это я убил человека?
Что бы там ни говорили, что Зулус оступился, что нога подвела, что так подверстались обстоятельства, что с моей стороны не было насилия, что это судьба решает, кому как скончать свои дни, но ведь именно я приложил руку. И к чему оправдания, к чему? Я своими руками убил человека, исполнив тайное желание. Мне бы помочь несчастному, поспешить за помощью в деревню, поднять Жабки на пяты, но я, влекомый внезапным страхом, как бы вырываясь из жуткого сна, кинулся прочь с Красной горки, преодолевая гнилой ручей, проломился сквозь камыши, миновал вязкий болотистый тягун, утопая в коричневой дурной жиже по колена и, хватаясь за склизкие ветви узловатых ольшаников, выполз на другую сторону лощины, в густую поросль жилистых папоротников, задыхаясь, побарывая звенящую пустоту в груди, замиряя мчащееся сердце, наконец-то свалился в тинистую густую прель, из остатка сил еще сыскивая спасительную нору, и тут сломался вдруг, обреченно замер, прислушиваясь к внезапной тишине. Гулкая всемирная тишина стояла в лесу, и только слышно было, как стучала в висках кровь, больно пурхалось сердце да сквозь елинники едва проникал гул большегрузных машин, взревывающих на подъеме.
«Туда надо, туда, – подсказывала беспокойная мысль, – там дорога на Москву, там попутки, а в Москве как иголка в стогу...» И вдруг чей-то спокойный сердечный голос провещал с вышины: «Куда деваессе, куда сховаессе, милый? Везде найдут».
Затрещали сучья, кто-то пробирался лесом, разводя руками кусты чахлого малинника, жаркое дыхание внезапно обожгло щеку. Я весь напрягся от ужаса... И проснулся.
Слава богу! Сон был, сон. Гулко билось сердце, спешило куда-то, душа просилась вон. Мать бродила по избе, бормотала себе под нос: «Куда чего деваю, ну никак не найду, старая». Псишко стоял подле дивана и дышал запашистым перегаром прямо в лицо, вывалив от жары длинный язык; черные, без просвета, глаза были как два прогоревших березовых угля, в глубине которых еще сохранялся жар былого пламени. Слава богу, снова с облегчением подумал я, то был всего лишь полдневный сон. Разламывая отекшее тело, выбрел на крыльцо. На воле стоял июльский зной, из кладбищенских ворот устало волоклись последние поклонники. С каким-то странным любопытством они взглядывали на меня, как на диковинного зверя, и тут же отворачивались, как бы устрашась моего вида. Появился Федор Зулус, жив-живехонек, деловито запахнул ворота, подпер батожком, чтобы не забредал скот, и вдруг, не спросясь, резко отпахнул калитку. У Зулуса было мертвенно-бледное лицо с пятаками под глазами, хрящеватый длинный нос, слегка раздвоенный, будто секанули по нему тупым ножом, сейчас призагнулся, как ястребиный клюв... Радость-то какая, милые мои, радость неиссекновенная, Боже мой! Жив соседушко, жив Зулус, грудь колесом и на тельнике ни кровинки, только шея в странных проточинах, будто ее изъели улитки. Вот ведь что набередит, когда не ко времени обратаешь подушку – милую подружку. Чур меня, чур...
В избе звенькнуло, отпахнулась оконная створка, ситцевая в голубой горох занавеска выпорхнула на волю, запахло стряпнёю, только что высунутой из печи. Мать небось сейчас куропачьим крылышком подмазывает пироги, сметывая на столешню с прокаленного противня. Даже почувствовал, как голодная слюнка спузырилась на кончике языка и тут же иссохла, испарилась в гортань. И мимолетное видение тоже истончилось, иссякло и пропало. Я тупо перевел взгляд на Зулуса, похожего на призрак, наваждение и вместе с тем плотского до каждой мелочи; у мужика были красные сапоги с подвернутыми голяшками, и на белых пушистых отворотах налипли комья бурой землицы, будто Федор только что копал себе могилу и вот вылез из ямки, чтобы забрать с собою. Я еще не мог выбрести из сна, был как бы в потном бреду, и явь причудливо мешалась с блазнью. Не скрывая радости, я спросил косным языком:
– Федор, с праздничком Христовым! Иль чего случилось? На тебе лица нет, как из гроба. А я тебя только что во сне видел...
– Слушай, колченогий. Ты мою девку в блуд не сбивай, – грубо сказал Зулус.
– Ты что, сбрендил?
– Последний раз говорю, колченогий: не рыскай за моей девкой, не для тебя рощена.
Зулус надвигался вразвалку, как бы прогибаясь от собственной тяжести по щиколотку в рыхлую землю, глубоко просунув руки в клапаны камуфляжных штанов, стиснув кулаки, отчего казалось, что в каждом кармане у него таилось по гранате. Мне было обидно, что обозвали «колченогим», и радость во мне сразу попритухла. Чего смеяться над чужими горями, верно? Сегодня ты во пиру, а завтра – в ящике.
Зулус приблизился вплотную и занял собою все живое пространство; он надвинулся, как человек-гора, бровастый, зевластый, с густой щетиною на крутых скульях, глаза сверлили меня из-под небес, склизкие, как налимья шкура, и сразу лишил меня воздуха; круто запахло тленом, влажной землею, сырью болотистой прели, палой иглицей, под которой вызрела свежая грибница. От гостя несло матерым кабаном, диким, сердитым вепрем, случайно поднятым с лежки. Я с тоскою взглянул в дальний конец двора в надежде, а не торчит ли на своей лавочке Артемон Баринов, не мусолит ли нескончаемую махорную сосулю. Артемон – егерь, у него ружье всегда под рукою.
Зулус надвинулся животом, и я невольно уперся ладонями в тугие жиловатые мяса, пытаясь оборониться квелыми ручонками. Но куда там, разве каменную стену сдвинешь? Мелькнула мысль: ухватить, что ли, за корень? Но неприлично как-то, неудобно, ведь не война же, не убивать же явился Зулус, да и чем таким особым насолил я, горожанин, Федору Горбачеву, который за дочь свою единственную готов любому голову открутить.