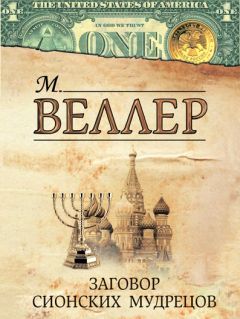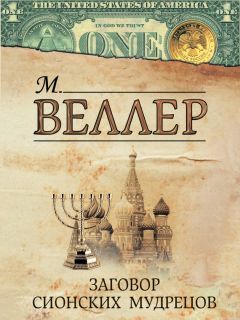Зельда Фицджеральд - Спаси меня, вальс
Один сильный человек может стать подпоркой для многих, отбирая для своих чад такие пожертвования в натурфилософию, которые обретали для его семьи видимость некоей цели. Когда дети из семьи Беггсов научились принимать насущно необходимые перемены своего времени, проклятый старик[2] уже уселся им на шею. Прихрамывая от тяжести, они вцепились в крепостные башни своих пращуров, обнесли забором свое духовное наследство — которого могло бы остаться больше, если бы они подготовили соответствующее хранилище.
Школьная подружка Милли Беггс говорила, что в жизни не видала более беспокойных младенцев. Если им что-то приспичивало, Милли либо сама выполняла их требования, либо звала врача, чтобы он обуздал жестокий мир, который был недостаточно хорош для ее исключительных деток. Немного получив от отца, Остин Беггс работал день и ночь в лаборатории своего мозга, чтобы ни в чем не отказывать семье. Волей-неволей Милли приходилось самой в три часа ночи брать на руки малышей и тихонько петь им или трясти погремушками, чтобы происхождение «Кодекса Наполеона» не улетучилось из головы ее мужа. А он говаривал без тени улыбки: «Я возведу для себя крепостной вал с колючей проволокой наверху и пущу вокруг диких зверей, чтобы никого из этих хулиганок не видеть и не слышать».
Остин любил девочек Милли с беспристрастной нежностью, анализируя свои чувства, как это свойственно мужчинам, занимающим высокое положение, если они имеют дело с напоминанием о своей юности, с памятью о далеком прошлом, когда они еще предпочитали набираться опыта, а не стали творением обретенных житейских познаний. Что это значит, легко понять, уловив сердечные ноты в бетховенской «Весенней» сонате. Наверное, Остин был бы ближе к семье, не похорони он единственного сына, совсем еще маленького. Уйдя в неистовое оплакивание своей потери, Судья как будто бежал от разочарования. Мужчинам и женщинам дано разделить поровну лишь финансовые трудности, однако как раз именно их Судья и взвалил на Милли. Швырнув ей на колени счет за похороны мальчика, он крикнул душераздирающе: «Ради Бога, как, по-твоему, я смогу это оплатить?!»
Никогда особенно не приближавшаяся к реальной жизни, Милли не сумела примирить эту мужскую жестокость со своим представлением о справедливости и благородстве. С тех пор она больше не пыталась составить объективное суждение о людях, но, замечая в первую очередь все их несовершенства, она все же заставила себя быть преданной им и таким образом достигла едва ли не ангельской гармонии в своей жизни.
— Возможно, у меня плохие дети, — сказала она как-то подруге, — но я этого не замечаю.
Накопленные представления о непримиримых противоречиях в характере человека научили Милли мысленно переключаться, этот трюк она освоила после рождения последнего ребенка. Когда Остин, впадая в ярость из-за косности современной цивилизации, метал над ее терпеливой головкой громы и молнии своего разочарования, неверия в человечество и денежных затруднений, она тут же переносила возникшее раздражение на простуду Джоанны или вывихнутую лодыжку Дикси, преодолевая все жизненные невзгоды с блаженной скорбью греческого хора.
Оказавшись перед лицом реальной нищеты, Милли погрузилась в стоический непоколебимый оптимизм, отчего сделалась недостижимой для бед, преследовавших ее до самой старости.
Взращенная мистическим духом негритянских мамок, семья, как наседка, холила и опекала девочек. Когда же они стали взрослеть, из-за скандалов по поводу каждого истраченного без спросу лишнего цента, трамвайной поездки на природу, пакетика мятных лепешек, Судья стал для них карающим органом, неумолимой Судьбой, могущественным законом, установленным порядком, дисциплиной. Молодость и старость: гидравлический фуникулер, с возрастом теряющий силу напора, но не желающий сдаваться. Повзрослевшие девочки искали у матери передышки от нотаций по поводу их девичьих капризов, как искали бы тенистую рощу, чтобы спастись от ослепительного света.
Скрипит крыльцо, светящийся жук с яростью поворачивает к цветкам клематиса, насекомые роем устремляются к золотистым гибельным светильникам в холле. Тени влажно касаются южной ночи, будто тяжелые мокрые швабры, возвращая ей жаркую черноту. Меланхоличный луноцвет выставляет темные жадные лапы над веревочными шпалерами.
— Расскажи, какой я была, — требует самая младшая дочь, прижимаясь к матери, чтобы ощутить ее близость.
— Ты была хорошей.
Девочке не хватало знаний про саму себя, ведь она родилась слишком поздно, когда из отношений родителей уже исчезли страсть и азарт и дочь уже не столько дочь, сколько некое отвлеченное понятие. А ей хотелось знать, какая она и на кого похожа, так как была слишком маленькой и еще не понимала, что она ни на кого не похожа и должна облечь свой скелет в то, что идет изнутри, как генерал, который может воссоздать битву, отмечая продвижения и отступления разноцветными булавками. К тому же ей было неведомо, что каждое из ее усилий помогало ей стать самой собой. То, что ее скупой отец способен лишь на ограничения, Алабама поняла гораздо позже.
— А я плакала по ночам? Кричала так, что ты и папа желали мне смерти?
— Чепуха! Все мои дети были замечательные.
— И бабушкины тоже?
— Думаю, да.
— А почему она прогнала дядю Кэла, когда он вернулся с Гражданской войны?
— Твоя бабушка была странной старой дамой.
— И Кэл был странным?
— Да. Когда он приехал, бабушка послала сказать Флоренс Фетер, мол, если она собирается ждать ее смерти, чтобы выйти замуж за Кэла, то пусть Фетеры имеют в виду: Беггсы имеют обыкновение жить долго.
— Она была очень богатой?
— Нет. Дело не в деньгах. Тогда Флоренс сказала, что с матерью Кэла может ужиться разве что дьявол.
— И Кэл не женился на ней?
— Нет. Бабушки всегда умеют настоять на своем.
Мама засмеялась — это был смех барышника, который рассказывает о своих удачах, как бы извиняясь за скопидомство, смех одного из членов семьи-победительницы, которая в вечном соперничестве одержала верх над другой семьей-победительницей.
— Будь я дядей Кэлом, ни за что не потерпела бы такое, — возмутилась малышка. — Я бы сделала то, что хотела, с мисс Фетер.
Глубокий поставленный голос отца подчиняет тьму последним диминуэндо[3]: пора спать.
Закрывая ставни, отец прячет некоторые особенности своего дома: и вот пронизанные солнечными лучами занавески с оборками начинают волноваться, складки колышутся, как косматая садовая изгородь, вокруг цветочков на ситце. В сумерках нет ни теней, ни искаженных очертаний мебели, зато комнаты становятся смутными серыми мирами. Зимой и весной дом похож на прекрасное сияющее отражение в зеркале. И тогда не имеет никакого значения то, что стулья разваливаются, а в коврах появляется все больше дыр. Дом становится как безвоздушное пространство, заполненное цельной натурой Остина Беггса. Как сверкающий меч, он покоится ночью в ножнах своего усталого благородства.
Жестяная крыша трескается в жару; внутри духота, как в закупоренной вентиляционной шахте. Во фрамуге над одной из дверей в верхней зале нет света.
— Где Дикси? — спрашивает отец.
— Гуляет с друзьями.
Почувствовав, что мать чего-то не договаривает, девочка придвигается к ней поближе, наслаждаясь своим участием в семейных делах.
«У нас что-то происходит, — думает она. — Как интересно быть семьей».
— Милли, — не успокаивается отец, — если Дикси опять болтается по городу с Рэндольфом Макинтошем, пусть катится вон из моего дома.
У отца от ярости трясется голова, с носа падают очки. Мама бесшумно ступает по теплым коврам своей комнаты, а девочка лежит в темноте, гордясь тем, что она тоже причастна к жизни семьи. Прямо в батистовой ночной сорочке отец отправляется вниз ждать старшую дочь.
Над кроватью младшей витает аромат спелых груш, доносящийся из сада. Где-то вдалеке оркестр репетирует вальс. Все белое сияет в темноте — белые цветы и брусчатка. Подобно серебряному веслу, луна в оконном стекле, наклонясь к саду, рассекает густой туман. Мир кажется моложе, чем на самом деле, ну а девочка ощущает себя старой и мудрой, у нее свои проблемы, она борется с ними как со своими собственными, а не унаследованными от предков. Но пока всё сверкает и цветет. Девочка важно исследует жизнь, словно ходит по диковинному саду, воображая, что вокруг не скучные ухоженные газоны. Она презирает упорядоченные посадки, она верит, что есть некий сказочный садовник, который приносит сладко пахнущие цветы с самых неприступных гор и расцветающие ночью плющи — с каменных пустошей, это он сажает дыхание сумерек и холит ноготки. Ей хочется, чтобы жизнь была легкой и наполненной приятными воспоминаниями.