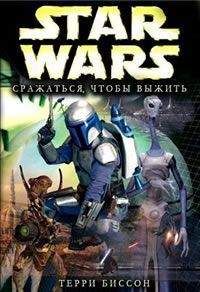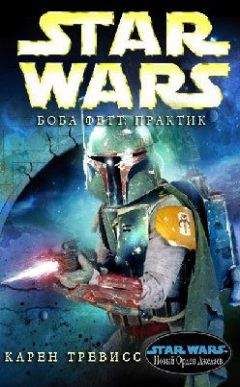Сергей Алексеев - Мираж
Борька терзал себя раздумьями до утра, а утром вместе с Семой Мыльниковым отправился к проводнице просить разрешения проехать зайцем до Красноярска, так как у Боба денег на дополнительный билет не было. Проводница долго бурчала про вредного бригадира поезда, про контролеров, но в конце концов согласилась, распределив обязанности следующим образом: Боб метет вагон, Сема собирает и сдает бутылки и кочегарит титан.
Теперь новоявленный мужчина по-хозяйски кричал «Ноги!» и шаркал веником по полу. Он работал увлеченно и мастерски: служба пошла впрок. Перед глазами маячил бородатый и продутый здоровяк с загадочным инструментом в руках по названию кайло. Собственно, Борька до своей станции мог и не мести, так как у него был билет и права пассажира, но сейчас он будто вступил в какой-то сговор со своим попутчиком и должен был проявлять обязательную солидарность. Трепыхнулось Борькино сердце, когда он увидел родную станцию, защемило до слез, но вырос перед глазами богатырь и напрочь заслонил ветхие домики и раскисшие поля. «От станции всего десять километров, а там…» – подумал он и почувствовал запах дыма, когда сжигают на огородах ботву. Богатырь же властно упрятал Борьку за широченную спину, и уже не родным дымком запахло, а смоленым дымом походных костров. Сколько ни пытался он высунуться из-за мощной фигуры землепроходца, так и не высунулся. Станция осталась за хвостовым вагоном, а Борька с веником в руках в роли «зайца» помчался вперед.
– Крепись! – взбодрил наблюдавший за ним Сема. – Ты свободный человек! Как говорят военные, в нашем полку прибыло!
– В каком полку? – не оборачиваясь, спросил Боб.
Боб бежал по тропе на вертолетную площадку, и злость на Сему проходила, затенялась приятными мыслями о грядущем. Это был уже не тот Борька, которого когда-то болтун и фантазер Мыльников ловко соблазнил в вагоне поезда. Придерживая фуражку, он прикидывал, как скорее бы очутиться у затертого окошечка кассы в конторе, набить карманы заработанными тысячами и завязать с тайгой навсегда. «Хватит, – думал Боб, – пять сезонов отбухал, этот последний. Работяга я временный, сезонный, свободный, куда хочу – туда лечу. А так еще и в кадровые запишут. Будешь всю жизнь здесь и света белого не увидишь. Сезонным – милое дело. Лето отпахал, деньги в карман и тю-тю».
Аналогичным образом, надо сказать, Боб Ахмылин думал в конце каждого сезона. Но вот беда, дальше Красноярска он никак не мог уехать. Даже за все эти годы в свою родную деревню не съездил. Только вроде выбрался, туда-сюда, а этих тысяч уже и нет. Обещанные Семой первоклассные рестораны и подмигивающие дамы-принцессы вместе с забавными шалунами-крокодилами оставались Борькиной голубой мечтой. Однако сам Мыльников каждую зиму куда-то ездил, по крайней мере надолго пропадал, и приезжал весной с кучей сладких воспоминаний, которые смаковал до следующей осени. Борьке же в Красноярске словно к ногам гири приковывали: как ни год, так обязательно застрянет.
Впрочем, из обещанных когда-то Семой «туманов» и славы землепроходца тоже ровным счетом ничего не вышло.
В первое лето Борька таскал ящики с базы геологической партии и грузил вертолеты. Ящики были тяжелые, с буровым железом, борты чудовищной грузоподъемности, а дни длинные и жаркие. Богатырь-бородач скукожился в узкогрудого парнишку и очень стал походить на настоящего Боба. Иногда, правда, несостоявшийся путешественник замечал кое-какой туман, но только в глазах, когда приходилось экстренно грузить проклятые вертолеты. Наверное, первый Борькин сезон и на самом деле стал бы последним, если бы его не перевели наконец в стационарную геологоразведочную партию горняком. Борькин землепроходец вздохнул и напыжился, но и тут не пришлось развернуть ему мощную грудь на всю ширину, какой она виделась тогда в вагоне.
Бить шурфы оказалось труднее, чем таскать ящики. Работали в общий котел, и нужно было не отставать, не волынить, не жаловаться. Боб из последних сил ковырял слежавшийся грунт непослушными руками, в которых был инструмент с таким ненавистным названием – кайло, и чуть не плакал. Жлоб Мыльников делал ту же работу, будто играл. Кроме всего, отчаявшийся романтик попал, что называется, в круг. Как только не подсмеивались над ним горняки! Однажды солидолу в сапоги наложили. И все ради хохмы. Сема, коварный предатель, нет чтобы защитить – громче всех хохотал. Но однажды такое случилось, что Боба сразу стали уважать и уж подтрунивали редко-редко…
А случилось вот что. Бобу, после кошмарного первого сезона в тайге, посоветовал Мыльников идти зимой учиться на взрывника. Борька сообразил, что предложение дельное, и пошел на курсы при экспедиции. Новая профессия Бобу страшно понравилась. Он казался себе даже маленьким начальником, поскольку вся работа на шурфе стала зависеть от него: сколько он сумеет взорвать – столько и проходку бригаде засчитают. А потом, иметь дело со взрывчаткой – это не кайлом породу долбить, здесь ум нужен и смелость. Боб стал важным, над чем немало потешались горняки.
Однажды взрывник Сахно, мужик хитрый и трусоватый, оставил на забое несколько невзорвавшихся зарядов. Прохлопал ушами, лезь теперь и обезвреживай, иначе породу черпать нельзя. Сделать все должен был сам Сахно, как и полагалось по инструкции. Но лезть в «заминированный» шурф ему не хотелось, и решил он натравить на это дело Боба.
– Я такие отказы, – сказал он небрежно, – щелкаю как орехи. А тебе, Боба, до этого – ого-го! Зелень ты и салага.
Боба это заело. Он стал спорить, что тоже сможет и уже приходилось ему обезвреживать и пусть Сахно не хвастается.
– Спорим? – предложил Сахно.
Горняки к такому спору отнеслись настороженно и посоветовали Бобу не спорить. Но профессиональная гордость взяла верх. Боб махнул рукой, натянул покрепче бывшую еще новенькой фуражку гражданской авиации и встал в бадью.
Спасла Бориса бадья, сделанная из разрезанной пополам железной бочки. Взрывом на поверхность выбросило фуражку, мелкую щебенку да несколько клочков ваты. Сахно пришел в ужас, сел у шурфа и только шептал, чтобы мужики не говорили комиссии, почему Боб полез в забой. Мол, не по спору, а сам, без ведома Сахно. Все равно, дескать, этого дурака не вернешь, зачем подводить под суд его, Сахно? Горняки подозрительно молчали и осторожно выкручивали бадью, только Сема Мыльников катался по земле и дико орал. К изумлению всех, едва бадья показалась в горловине шурфа, в ней встал на ноги сам Боб. Неуклюже вытирая сочащуюся из ушей кровь, он вылез на землю и молча пошел к Сахно. Широко размахнулся и хотел ударить, но закашлялся и присел. Обрадованный благополучным исходом, Сема с остервенением подскочил к хитрому спорщику и исполнил желание контуженного Боба, даже чуть перестарался. С шурфа вели, поддерживая, двоих – Сахно и Боба.
Незадачливый взрывник подлечил контузию, но, кроме кайла, ничего взрывчатого в руки больше не брал. Остались лишь ненависть ко всякому дыму и боязнь выстрелов. Зная весь этот комплекс неприятных ощущений Боба, горняки при нем воздерживались открывать пальбу, подливали ему в стакан, когда случалась выпивка, чуть больше, чем всем, а иногда даже курили поменьше в Бобовом присутствии. Получил он поблажку и в работе. Устал Боб кайлом долбить – сядь, отдохни, слова никто не скажет. Боб не злоупотреблял этим, но и не отказывал себе – как-никак заслужил.
Несмотря на внезапно появившийся авторитет, Бориса все же считали чудаком. Тот самый символ возвращения в цивилизацию – фуражка гражданской авиации – смущала богатых специфическим юмором горняков. Может быть, еще и потому, что никто больше такой фуражки не носил, хотя, если разобраться, у каждого можно было найти какие-нибудь причуды. Один кайло, завернутое в тряпочке, возит, а работать им не работает, другой всяких зверей выстругивает из коряг и сучьев, третий ящик с книгами с места на место таскает, книг этих никогда не читая. Все это считалось нормальным, а Бобова фуражка почему-то нет. Как-то один горняк, в прошлом инженер-электрик, сделал предположение, что у Бориса после взрыва наступил сдвиг по фазе. Однако сам Боб считал свою фуражку чем-то вроде талисмана. Что только не потерял он за пять лет!.. Так ни разу и не женился, не повидал отца с матерью, не узнал, на сколько голов выросла Анюта и еще много чего. А вот фуражка каждый год оставалась целой, лишь старела и выцветала. И как только на территории базы весною начинала мелькать бледно-синенькая фуражечка, собиравшиеся к этому времени бичи-сезонники говорили: «Слышал (или видел), Боб приехал!» По этому признаку узнавали его и в отделе кадров, так как вконец исхудавший и осунувшийся за зиму Боб изменился в лице.
Случалось с Бобом Ахмылиным и такое, что он вдруг от тоски и безводочья ударялся в тихую философию. Потрепаться, кстати, все горняки были не прочь. Кто про что. Наговорятся за вечер, наспорятся, а утром – кайла в руки и на шурф, как ни в чем не бывало. Треп трепом, деньги деньгами. Но Боб, философствуя, ходил такой, будто его наизнанку вывернули. Долбит, долбит породу, вылезет из шурфа и к Семе: