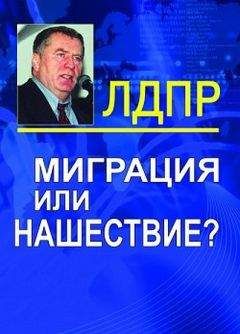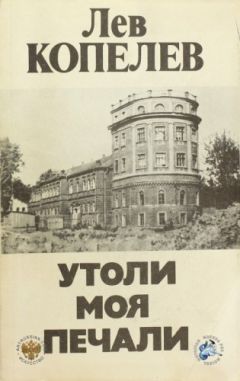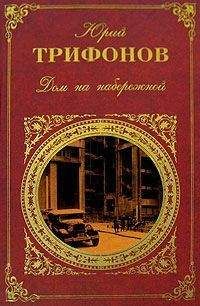Лев Копелев - И сотворил себе кумира...
17 лет прожил Лев Копелев в Кельне, он награжден многими премиями и наградами, всю свою жизнь он посвятил исследованию и укреплению духовных связей между Россией и Германией и именно в Кельне был создан Форум имени Льва Копелева, который продолжает главное дело его жизни. Из незнания другой культуры рождается подозрительность, страх, и на этой почве возникает образ врага. Надо знать своих соседей в Европе и научиться терпеть их (по словам Гете). Создание Форума свидетельствует о том, что в Германии хотят сохранить память о Льве Копелеве, посреднике между двумя культурами, одного из выдающихся гуманистов двадцатого совсем негуманного столетия. Главу из книги о последних хлебозаготовках я впервые услышала летом в конце 1960-х на даче в подмосковной Жуковке, чтение записали на магнитофон, эта запись сохранилась. Услышав этот рассказ один раз, забыть его уже невозможно.
Мария Орлова
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Может это истина открылась.
Или просто молодость прошла…
Владимир КорниловБыло время, когда мы говорили о двадцатых годах как о «Золотом веке» Потом нередко золото оказывалось фольгой или «обманкой».
Сегодня мы знаем, что романтические революционные порывы, о которых мы столько раз вспоминали с нежной грустью, у одних выродились в истовое служение палачеству, а других обрекли на каторжные судьбы, на бесславную гибель.
Сегодня мы знаем, как наши тогдашние идеалы и мечты постепенно преобразились в унылое доктринерство или в бесстыдную ложь.
Но и сейчас я думаю, что тогда и впрямь жила, жарко дышала молодость. И не только телячья молодость моих ровесников, а молодость века. Утро эпохи, которую мы сейчас доживаем.
Были еще молоды надежды миллионов людей, были молоды научные открытия и политические вероучения, сулившие счастье всему человечеству. Были молоды поэты, художники и музыканты, которые возвещали начало новых времен и новых миров.
Мы вслед за Маяковским величали нашу страну «землей молодости». И как веселое заклинание твердили стихи Асеева:
Что же мы, что же мы, неужто размоложены?
Неужто нашей юности конец пришел?
Неужто мы седыми сквозь зубы зацедили?…
Молоды были и другие страны — Польша, Чехословакия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Югославия, Венгрия — каждая из них была моложе меня. Молоды были республики в Германии, в Австрии, в Турции.
Молоды были и Комсомол и Коминтерн — штаб мировой революции, которой еще предстояло родиться.
И даже наши злейшие враги не были стары: о них писали и говорили «фашистские молодчики».
Сорокалетние родители казались нам старыми, а шестидесятилетние дедки-бабки и вовсе дряхлыми. Они еще помнили царя и революцию 1905 года. А моим ровесникам война с Японией казалась такой же давней историей, как пожар Москвы, восстание декабристов или оборона Севастополя.
Мы не сознавали, как молоды были наши великие современники — Ахматова, Пастернак, Маяковский, Эйзенштейн, Шостакович… И лишь много лет спустя мы начали узнавать о Брехте, Хемингуэе, Фолкнере, Лорке, Неруде, Сент-Экзюпери. Они тоже были молоды в двадцатые годы.
Двадцатитрехлетний Брехт в нищей, голодной Германии писал о грядущих мировых катастрофах, о неминуемой гибели больших городов, от которых останется «только ветер, продувший сквозь них». А четверть столетия спустя, на пороге старости, он славил «рассветы новых начинаний, дыхание ветра с новооткрытых берегов.»
Вероятно, это закономерно. Молодость, не сознавая своего счастия, торопится к мудрой зрелости. А в старости острее сознаются утраты и тем дороже былые молодые мечты и молодые силы.
После 1956 года, во время «оттепели», казалось, начали таять и крошиться угрюмые ледники сталинщины и все настойчивее всплывали радужные воспоминания о двадцатых годах, как о поре «настоящей» советской власти.
Старики, которые возвращались после долгих лет тюрем и ссылок, призывали восстанавливать «ленинские принципы», воскрешать романтические идеалы их революционной юности. Они верили, что лишь так восторжествует правда, свобода и «подлинный социализм».
Молодые люди узнавали, как их обманывали учителя, пропагандисты и литераторы. И верили, что восстановленная правда двадцатых годов поможет им жить разумнее, честнее и смелее, чем прожили незадачливые старики. Эта правда казалась им сродни поэзии Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Волошина, прозе Булгакова, Зощенко, Бабеля, Платонова, искусству Петрова-Водкина, Мейерхольда… Эти сокровища национальной культуры, еще недавно запретные и вовсе неведомые большинству молодых, расколдовывались, высвобождались из тайных укрытий в то же самое время, когда реабилитировали, — чаще всего посмертно, — тысячи старых большевиков, тех, кто в двадцатые годы работал, активничал, запевал, верховодил…
Литераторы, художники, режиссеры, артисты радовались, что снимаются запреты и заклятья с наследства двадцатых годов, верили, что возрожденные традиции ослабят цензуру, смягчат казенную идеологическую опеку.
Примерно в то же самое время их коллеги в других странах стали так же настойчиво вспоминать о своих двадцатых годах, о «Roaring Twenties», «Goldene Zwanziger».
Искатели новых путей и послушники очередной моды находили в этих воспоминаниях и мифах, рождаемых ими, неизбытые традиции, неизрасходованные сокровища, несправедливо покинутые идеалы.
Но даже в тех случаях, когда такой ностальгией бывают захвачены молодые люди, я чувствую: это стареющий век тоскует по невозвратной молодости.
«Не календарный, настоящий двадцатый век» (Ахматова) начинался в 1914 году.
Мировая война, революции, мятежи, усобицы были его кровавой купелью. На двадцатые-тридцатые годы пришлись его буйное отрочество и трагическая юность. Тогда еще не были утрачены многие старые надежды, истлели еще не все новые иллюзии; и голоса немногих проницательных современников были почти не слышны в грохоте битв и погромов, в рокотании тревожных, боевых и победных фанфар, в разноголосом галдеже мятежных и ликующих толп…
Запрягайте кони, кони вороныи,
Догоняйте лита мои, лита молодыи.
Мальчишкой, слушая эту песню, я иногда плакал. А с тех пор, как все отчетливей сознаю, что старею, она и печалит и радует. Не запрячь коней. Не догнать лет. Но, если память о молодости еще влечет, еще забирает за живое, значит, живу.
Иногда все же хочется повторить извечно повторяющееся: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя.» Я стараюсь избегать старческой аберрации восприятия жизни. Впрочем, всем возрастам свойствен генерационизм, то есть склонность пристрастно выделять свое поколение, его историческую роль, его добродетели или страдания. Но я внятно чувствую: одряхлели не только мои ровесники, но и век. Холодны его закатные тени.
И суть не в том, что новое «племя младое, незнакомое» по-иному глядит на сегодняшний мир, и не в том, что полвека назад мы совсем иначе видели тогдашний мир. Такие различия естественны.
Но вот мы смотрим на людей, впервые ступающих на Луну, читаем, слушаем о космических полетах, о пересадках сердца, о думающих машинах… И все мы — и молодые и старые — осознаем и ощущаем эти чудеса по-иному, чем некогда люди разных поколений воспринимали полеты Амундсена, Линдберга, Чкалова, Громова, рябое мелькание первых киножурналов, шипение и свист первых радиоприемников, рассказы о конвейерах, об автоматах… Изумление старших, их восторги и страхи, наивные сомнения или дерзкие фантазии заражали или вызывали на споры молодых.
А теперь, хотя мы и не старее, чем тогда были наши деды и родители, но куда более спокойно — даже вовсе равнодушно — воспринимаем несоизмеримо более чудесные чудеса, скорее забываем о них.
Немецкая писательница послевоенного поколения рассказывала в личном письме 12 ноября 1969 года.
«Чудо высадки на Луне я пережила в деревянном доме, в Австрии, в горах… Мы все таращились на экран, потом некоторые сидели всю ночь, однако я не испытала особого сердцебиения. И вспомнила: моя мать девочкой шла однажды из школы и на дороге встретила красный автомобиль, в котором сидели некие очкастые фигуры в диковинных одеждах. Она решила, что едет сам дьявол и с криком побежала через поле. А Луна, как мне кажется, была нами воспринята и усвоена еще до высадки. Сидеть всю ночь нужно было для шику. Я говорила с некоторыми из тех, кто не мог обойтись без этого. Нет, настоящим (т. е. личным) событием это для них не было. Просто так. Из честолюбия.»
В марте 1977 года я вспомнил об этом письме, потому что мы с женой не могли припомнить, когда же была первая высадка на Луну: в 1972 или в 1973 году. А наши молодые друзья, которые уверяли, что я несправедливо принижаю наше время, говорили: высадка была в 1970 году… Несомненно, многие люди тверже помнят даты недавних великих событий, имена современных героев. (Стыдно признаться, но из имен американских астронавтов я уже могу назвать только Армстронга.) Однако никто из всех молодых людей, которых я спрашивал, не помнил своих первых встреч с телевизором, с самолетом. Для них это повседневный быт. А я никогда не мог забыть, как в первый раз пошел в синематограф, как там пахло, как сиял экран. Прекрасное чудо! Годы спустя его стали называть «кино» и это слово сперва казалось мне жаргонно фамильярным.