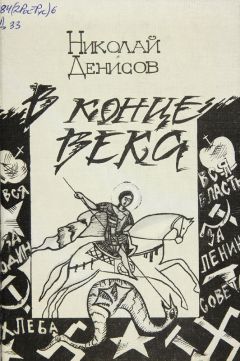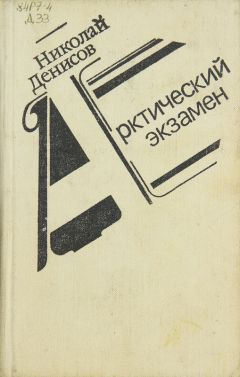Татьяна Толстая - Сомнамбула в тумане
«Волк. Канис люпус. Пищевой рацион.
Пищевой рацион волка разнообразен.
Волк имеет разнообразный пищевой рацион: грызуны, домашний скот.
Разнообразен пищевой рацион серого: тут тебе и грызуны, и домашний скот.
До чего ж разнообразен пищевой рацион волчка — серого бочка: тут тебе и заиньки, и кудрявые овечки…»
Ничего, ничего, папуленька, радость моя, пиши; все пройдет! Все будет хорошо! Это Денисова разрушают сомнения, червивые мысли, чугунные сны. Это Денисов страдает словно от изжоги, целует Лору в темечко, уезжает к себе домой, заваливается на диван, под карту с полушариями, носками — к Огненной Земле, головой — под Филиппины, ставит пепельницу себе на грудь, окуривает холодные горы Антарктиды — ведь кто-то сидит же там сейчас, ковыряется в снежку во имя большой науки, — вот вам дымку, ребята, погрейтесь; отрицает Австралию, ошибку природы, слабо мечтает о капитане: пора бы протечь, деньги-то все прожиты, — и снова о славе, о памяти, о бессмертии…
Он видел сон. Купил он будто хлеба — как обычно, батон, круглый, бубликов десяток. И несет куда-то. В каком-то он будто бы доме. Может быть, учреждение — коридоры, лестницы. Вдруг трое — мужчина, женщина, старик, только что спокойно с ним разговаривавшие, — кто что-то объясняет, кто советы дает, как пройти, — увидели хлеб и как-то дернулись, словно бы бросились мгновенно и тут же сдержались. И женщина говорит: «Простите, это у вас хлеб?» — » «Да вот купил…» — «А вы не дадите нам?..» Он смотрит и вдруг видит: да это блокадники. Они голодные. Глаза у них очень странные. И он сразу понимает: ага, они блокадники, значит, и я блокадник. Значит, есть нечего. И разом наваливается жадность. Только что хлеб этот был пустяк, ерунда, ну купил и купил — и вдруг сразу жалко стало. И он говорит: «Ну-у, я не знаю. Мне самому надо. Не знаю, не знаю». А они молчат и смотрят прямо в глаза. И женщина дрожит. Тогда он берет один бублик, тот, где мака поменьше, разламывает на части и раздает, но один кусок от этого бублика все-таки берет себе, придерживает. Руку как-то странно изгибает — наяву так не согнешь — и придерживает. Неизвестно зачем, ну просто… чтобы не все уж так-то сразу… И тут же уходит от них, от этих людей, от рук их протянутых, и вдруг он уже у себя дома и понимает: какая же к черту блокада? Никакой блокады. Да мы же вообще в Москве живем, за семьсот километров — с чего это вдруг? Вон и холодильник полон, и сам я сыт, и за окнами люди довольные идут, улыбаются… И сразу совестно, и в сердце нехорошая тошнота, и батон этот пухлый тяготит, и девять бубликов этих как звенья распавшейся цепи, и думает он: ну вот, зря пожадничал! Что это я? Свинья какая… И кидается назад: где эти, голодные-то? А их уже нет нигде, все, проехали, милый друг, упустил, ищи-свищи, все двери заперты, время приоткрылось и захлопнулось, иди себе дальше, живи, живи, можно! Да пустите же!.. Откройте! Так все быстро, я даже ужаснуться не успел, я был не готов! Но я же был просто не готов! Он стучит в дверь, колотит ногами, пинает каблуком, дверь распахивается, там столовая, кафе какое-то, выходят спокойные едоки, утирают сытые рты, на тарелках — макароны, котлеты расковыренные… Тенью прошли те трое, заблудившиеся во времени, растворились, рассыпались, нет их, нет, не будет никогда, голое дерево качает ветвями, отражаясь в воде, низкое небо, горящая полоса заката, прощай.
Прощай! И он всплывает на своей постели, на диване, он всплыл, он скомкал простыню ногами, он ничего не понимает: что за глупость, в самом деле, зачем? И ему бы немедленно заснуть опять, и все бы прошло, и забылось к утру, и стерлось, как стираются слова на песке, на морском шумящем берегу, — так нет же, пораженный увиденным, он зачем-то встал, отправился на кухню и, бессмысленно глядя перед собой, съел бутерброд с котлетой.
А был темный июльский рассвет, самое его начало, я птицы еще не пели, и по улице никто не проходил, и для теней, привидений, суккубов и фантомов самое было подходящее времечко.
Как они сказали-то? «Дайте нам» — так, что ли? Чем больше он о них думал, тем яснее видел детали. Как живые, честное слово. Нет, хуже, чем живые. У старика, например, появилась и упорствовала, настойчиво воплощаясь, шея, густо-коричневая, морщинистая шея, темная, словно кожа копченого сига. Ворот белесой, выцветшей из синего рубахи. И пуговица костяная, наполовину обломанная. Лицо условное — старик, и все, — но шея, ворот, пуговица так и стояли перед глазами. Женщина, видоизменяясь, пульсируя так и сяк, сложилась в худую, усталую блондинку. На тетю Риту покойную чем-то похожа.
А мужчина был толстый.
Нет, нет, они вели себя некорректно. Эта женщина, как она спросила: «Это у вас что, хлеб?..» Как будто не видно! Да, хлеб! Надо было не в авоську, а в сумку или хотя бы бумагой прикрыть. И что это: «Дайте нам»? Ну что это? А если у него самого семья, дети? Может быть, у него десять человек детей? Может быть, он детям нес, откуда они знают? Неважно, что детей нет, это, в конце концов, его дело. Купил — значит, надо было. Спокойно себе шел. И вдруг: «Дайте нам»! Ничего себе заявленьице!
Что они пристали? Да, он пожалел хлеба, было у него такое движение, верно, но бублик-то он дал, а сдобный, дорогой, румяный бублик, между прочим, лучше, ценнее черного хлеба, если уж на то пошло, это во-первых; а во-вторых, он же сразу опомнился, бросился назад, хотел все поправить, но все куда-то делось, сместилось, исказилось — что ж тут поделаешь? Честно, ясно, в полном сознании своей вины он искал их, ломился в двери, что ж поделаешь, если они не стали ждать и уплыли? Им надо было стоять и не двигаться, держаться за перила — там были перила — и спокойно дожидаться, пока он прибежит к ним на помощь. Десять секунд не могли потерпеть, тоже мне!.. Нет, не десять, не секунд, там все иначе, и место скользит, и время валится вбок рваной волной, и все это крутится, крутится; там одна секунда стоит большая, медленная, гулкая, как заброшенный храм, другая — мелкая, юркая, быстрая, — чиркнув спичкой, сжигает тысячу тысяч лет; шаг в сторону — и ты в чужой вселенной…
А мужчина этот был, пожалуй, неприятней всех. Во-первых, он был очень полный, неряшливо полный. И держался чуть в стороне, и смотрел хоть и отрешенно, но с неудовольствием. Он, кстати, не стал объяснять Денисову дорогу, он вообще не принял в разговоре никакого участия, но бублик взял. Ха, он бублик-то взял, первым сунулся! Он даже старика рукой толкнул! А сам толще всех! И рука у него такая белая, будто детская, с перетяжкой, и веснушки мелким пшеном по руке, и нос крючком, и голова яйцом, и очечки! Вообще противный тип, и непонятно даже, что он там делал, в этой компании! Он явно был не с ними, он просто подбежал и присуседился, увидел, что раздают, — ну и… Женщина эта, тетя Рита… Кажется, она была самая голодная из троих… Ну что ж, я ведь дал ей бублик! Да это просто роскошь в их положении — такой свежий, румяный кусина… О боже, в каком положении?! Перед кем я оправдываюсь? Не было их, не было! Ни здесь, ни там, нигде! Смутное, бегучее ночное видение, струение воды по стеклу, мгновенная спазма в глубоком тупике мозга, лопнул ничтожный, ненужный сосудик, булькнул гормон, екнуло в мозжечке, в каком-нибудь турецком седле — как они там называются, эти нехоженые закоулки?.. Нехоженые закоулки, мощеная мостовая, мертвые дома, ночь, качается фонарь, метнулась тень — летучая ли мышь, ночная птица, или просто упал осенний лист? Вдруг все трепещет, отсыревает, плывет и вновь останавливается — пронесся и исчез короткий холодный дождь.
Где я был?
Тетя Рита. Странных спутников подобрала она к себе в компанию, тетя Рита! Если это, конечно, она.
Нет, не она. Нет. Тетя Рита была молодая. У нее была другая прическа: надо лбом валик, волосы светлые, прозрачные. Она вертелась перед зеркалом, примеряла кушак и пела. А еще что? Да ничего больше! Просто пела!
Замуж, должно быть, собиралась.
А потом она исчезла, и мать велела Денисову никогда больше о ней не спрашивать. Забыть. Денисов послушался и забыл. А пудреницу, которая от нее осталась, стеклянную, с фукалкой, с синей шелковой кистью, он променял во дворе на перочинный ножик, и мать побила его и плакала ночью — он слышал. И тридцать пять лет прошло. Зачем же его мучить?..
При чем тут блокада, хотел бы я знать? Блокада к тому времени давно уж кончилась. Начитаешься на ночь всякого…
А интересно: кто эти люди? Старик какого-то колхозно-рыбацкого вида. Как он туда попал?.. А толстяк этот — он что, тоже мертвый? Ох как он, должно быть, не хотел умирать, такие умирать боятся. Визгу, наверно, было! А дети кричали: папа, папа!.. За что он умер?