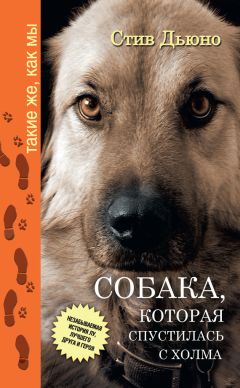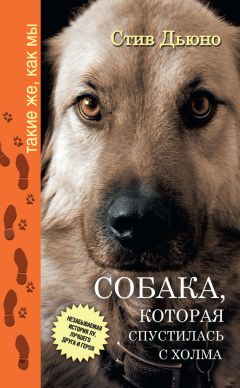Мартин Эмис - Информация
— Не можешь? — спросил Мариус.
— Хочешь чаю? — невпопад спросила Джина.
— Тук-тук, — сказал Марко.
— Я застегиваю. Нет, спасибо, все нормально. Кто там? — подал реплику Ричард, отвечая всем по порядку.
— Ты, — ответил Марко.
— Ну же, застегни. Ну давай же, папа, — сказал Мариус.
— Кто — ты? — ответил Ричард, — Ты хотел сказать, застегивай поскорее. Я стараюсь.
— Дети готовы? — спросила Джина.
— Эй, отзовись! Тук-тук, — сказал Марко.
— Думаю, да. Кто там?
— А дождевики?
— Эй!
— Нужны дождевики?
— Ты как хочешь, но без дождевиков я их в такую погоду никуда не повезу.
— Эй! — сказал Марко.
— Ты их сам отвезешь?
— Кто — эй? Да, думаю, да.
— Что ты кричишь?
— Посмотри на себя. Ты еще не одет.
— Сейчас оденусь.
— Почему ты кричишь?!
— Уже без десяти девять. Я сама их отвезу.
— Да, ладно. Я их отвезу.
— Папа! Почему ты кричишь?!
— Что? Я не кричу.
— Ты ночью кричал и плакал, — сказала Джина.
— Правда? — удивился Ричард.
Все еще в халате и в шлепанцах на босу ногу, Ричард пошел провожать жену и детей. Он вышел вместе с ними из квартиры и стал спускаться вниз по лестнице. Но вскоре они вырвались вперед, так что когда он обогнул последний поворот лестницы, то успел только увидеть, как входная дверь открылась и закрылась, — и веселый ветерок исчез, щелкнув на прощание хвостом.
Ричард забрал свою газету «Таймс» и свою второсортную почту (в дешевых конвертах из грубой бумаги, никому не нужные письма, пробирающиеся по городу ужасно медленно). Ричард внимательно просмотрел газету и наконец дошел до рубрики «Поздравляем!». Вот оно. Там даже была его фотография в обнимку с женой — леди Деметрой.
В одиннадцать Ричард набрал номер. Он почувствовал прилив нервного возбуждения, когда Гвин Барри сам взял трубку.
— Алло?
Ричард перевел дух и произнес с расстановкой:
— …Ах ты, старый хрен.
Гвин помолчал. Наконец до него дошло, и он расхохотался благодушным и даже вполне искренним смехом.
— Ричард, — произнес он.
— Не смейся так. Лопнешь. Или шею свернешь. Сорок лет. Да-а. Видел твой некролог в «Таймс».
— Слушай, ты пойдешь туда?
— Я — да. А тебе, пожалуй, лучше воздержаться. Посидишь тихонько у камина, укутав ноги пледом, в компании со стариковскими пилюлями и кружкой чего-нибудь горяченького.
— Ладно, ладно, кончай, — сказал Гвин. — Так ты пойдешь?
— Да, думаю, да. Что, если я зайду к тебе в полпервого, а потом мы возьмем такси.
— В полпервого. Отлично.
— Старый хрен.
Ричард горько вздохнул и пошел в ванную, и там долго и с ужасом разглядывал себя в зеркало. Его сознание принадлежало ему, и он нес полную ответственность за все, что бы оно ни натворило или еще могло натворить. А вот тело… Остаток утра он провел, шлифуя первое предложение своей статьи в семьсот слов о книге объемом в семьсот страниц, посвященной Уорику Дипингу. Как и его близнецов, Ричарда и Гвина Барри разделял всего один день. Ричарду сорок лет исполняется завтра. Но «Таймс» об этом не напишет. «Таймс» удостаивает своим вниманием только знаменитостей. А в доме 49 по улице Кэлчок-стрит проживала лишь одна знаменитость, и она никому не была известна. Джина была генетической знаменитостью. Каждый дюйм ее тела был прекрасен, и она совсем не менялась. Становилась старше, но не менялась. На старых фотографиях она была все такая же и все так же не мигая смотрела в объектив. А вот все остальные, казалось, менялись немилосердно часто, представая то мессиями в восточных одеждах, то эдакими пышноусыми сапатами.[1] Иногда Ричарду хотелось, чтобы Джина не была такой: такой красивой. Особенно если учесть его теперешние муки. Ее брат и сестра были обыкновенными. Ее покойный отец тоже был как все. Ее мамаша, старая толстая развалина, была еще жива, но уже почти не вставала с постели.
Мы все сходимся во мнении — да бросьте вы, разумеется, мы все единодушны, — когда дело касается красоты плотской. Здесь консенсус вполне возможен. И в математике вселенной красота помогает нам отличить истинное от ложного. Мы быстро находим общий язык, когда речь идет о красоте небесной и плотской. А вот в остальном — далеко не всегда. Относительно красоты печатного слова, например, наши мнения не совпадают.
Скуззи, сидевший в кабине фургона, посмотрел на Тринадцатого и произнес:
— Короче, приходит Морри к врачу, так?
— Ага, — произнес Тринадцатый.
Тринадцатому было семнадцать лет, и он был чернокожим. На самом деле его звали Бентли. Скуззи был тридцать один год, и он был белым. И на самом деле его звали Стив Кузенс.
— Короче, Морри говорит врачу: «У меня с женой не стоит, с моей женой — Квини. У меня с Квини не стоит».
Услышав это, Тринадцатый сделал то, что белые люди по-настоящему делать разучились: он улыбнулся. Когда-то давно и белые люди это умели делать.
— Ну, — с любопытством произнес Тринадцатый.
«Морри, Квини, — подумал он про себя, — Кругом одни евреи».
— А доктор ему, — продолжал Скуззи, — «Бедняга. Слушай, мы тут пилюли получили из Швеции. Новейшая разработка. Стоят недешево». Одна пилюля на целый ковер тянет. Сечешь?
Тринадцатый кивнул:
— Ну.
Они сидели в оранжевом фургоне, потягивая грейпфруто-ананасовый напиток из банок «Тинг». Между ними у ручного тормоза безмолвно восседал Джиро (это жирный пес Тринадцатого) и учащенно дышал, точно умирал от вожделения.
— Примешь одну, и у тебя четыре часа будет стоять. Пушка что надо. Короче, возвращается Морри домой… — Тут Скуззи выдержал паузу, а потом задумчивым тоном продолжил: — Звонит он доктору и говорит: «Ну, выпил я одну пилюлю, и что?!»
Тринадцатый повернулся к Скуззи и нахмурился.
— «Квини ушла за покупками. Вернется не раньше чем через четыре часа!» Доктор ему говорит: «Да, приятель, дело серьезное. А дома кто-нибудь еще есть?» «Да, — отвечает Морри, — Нянька». Доктор его спрашивает: «Ну и как она?» Морри говорит: «Восемнадцать лет и большие сиськи». Тогда док ему: «Ладно. Без паники. Придется тебе няньку трахнуть. Скажи ей, мол, так и так — ситуация чрезвычайная. По медицинским показаниям».
— По медицинским показаниям, угу, — пробурчал Тринадцатый.
— «Хм-м, не знаю, — говорит Морри, — В смысле — одна пилюля на целый ковер тянет. Пропали мои денежки почем зря. С нянькой у меня и так стоит».
Наступило молчание.
Джиро зевнул, широко раскрыв пасть, а потом снова учащенно задышал.
Тринадцатый откинулся на спинку сиденья. Желания расплыться в улыбке и нахмурить брови боролись между собой за право господствовать на его лице. Победила улыбка.
— Ага, — произнес он, — Типа трахайтесь на ковре.
— На каком, на хрен, ковре?
— Ты сам сказал — на ковер.
— Когда?
— Ну, пилюли на ковер.
— О, боже, — сказал Скуззи, — Это пилюли стоят как целый ковер. Одна штучка.
Лицо Тринадцатого вытянулось. Но это так — ерунда. Пройдет.
— Ковер, говорю. Боже. Ковер — это полсрока.
Ничего — ничего страшного.
— Черт, короче, срок у нас — год, а ковер — полсрока. Шесть сотен выходит.
Прошло. Тринадцатый слабо улыбнулся.
— Тоже мне. Это ведь ты у нас тюремная пташка, — добавил Скуззи.
Внезапно, как в фильмах ужасов (Джиро даже перестал пыхтеть), слева от фургона на переднем плане появился Ричард Талл. Заметив их, он поморщился и, пошатываясь, побрел дальше. Джиро широко зевнул и снова запыхтел.
— Во! — Скуззи кивнул в сторону Ричарда.
— Он, — сказал Тринадцатый просто.
— Не-е, это не он. Это второй. Приятель того. — Скуззи кивнул, ухмыльнулся и покачал головой, и все это одновременно: он любил так делать. — А Бац его жену пялит.
— Говорят, этого мужика часто по телику показывают, — сказал Тринадцатый, нахмурившись, и добавил: — Правда, я его ни разу по ящику не видел.
— А ты только своих долбаных «Симпсонов» и смотришь, — буркнул Стив Кузенс.
Ричард позвонил в дверь дома на Холланд-парк-авеню, предъявив свою моментально осунувшуюся физиономию и бабочку камере наружного наблюдения. Камера резко развернулась и уставилась на него со своего небольшого кронштейна над дверью. Ричард попытался внутренне собраться. Он хотел приготовиться к тому, что сейчас на него навалится. Это у него никогда не получалось. Обстановка в доме Гвина всегда давила на него. Ричард походил на того придурка-курсанта на атомной подлодке, который во время обычной проверки механизмов, болтая с приятелем, повернул ручку на торпедном аппарате и тут же был сбит с ног фаллосом бурлящей морской воды. На глубине с давлением в несколько атмосфер, под прессом всего того, что есть у Гвина.