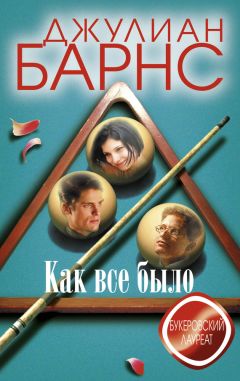Джулиан Барнс - Шум времени
Часть первая
На лестничной площадке
Он твердо знал одно: сейчас настали худшие времена.
Битых три часа он томился у лифта. Курил уже пятую папиросу, а мысли блуждали.
Лица, имена, воспоминания. Торфяной брикет – тяжестью на ладони. Над головой бьют крыльями шведские водоплавающие птицы. Подсолнухи, целые поля. Аромат одеколона «Гвоздика». Теплый, сладковатый запах Ниты, уходящей с теннисного корта. Лоб, мокрый от пота, стекающего с мыска волос. Лица, имена.
А еще имена и лица тех, кого уже нет.
Ничто не мешало ему принести из квартиры стул. Но нервы так или иначе не дали бы усидеть на месте. Да и картина была бы довольно вызывающая: человек расположился на стуле в ожидании лифта.
Гром грянул нежданно-негаданно, однако была в этом своя логика. В жизни всегда так. Взять хотя бы влечение к женщине. Накатывает нежданно-негаданно, хотя вполне логично.
Он постарался сосредоточить все мысли на Ните, но они, шумные и назойливые, как мясные мухи, не поддавались. Пикировали, само собой разумеется, на Таню. Потом, жужжа, уносились к той девице, Розалии. Краснел ли он, вспоминая о ней, или же втайне гордился своей шальной выходкой?
Покровительство маршала – оно ведь тоже оказалось неожиданным и вместе с тем вполне логичным. А судьба самого маршала?
Добродушное, бородатое лицо Юргенсена – и тут же воспоминание о суровых, неумолимых маминых пальцах на запястье. И отец, милейший, обаятельный, скромный отец, который стоит у пианино и поет «Отцвели уж давно хризантемы в саду».
В голове – какофония звуков. Отцовский голос; вальсы и польки, сопровождавшие ухаживание за Нитой; четыре фа-диезных вопля заводской сирены; лай бродячих собак, заглушающий робкого фаготиста; разгул ударных и медных духовых под бронированной правительственной ложей.
Эти шумы прервал один, вполне реальный: внезапный механический рык и скрежет лифта. Дернулась нога, опрокинув стоявший рядом чемоданчик. Память вдруг улетучилась, а ее место заполонил страх. Но лифт остановился со щелчком где-то ниже, и умственные способности восстановились. Подняв чемоданчик, он ощутил, как внутри мягко сдвинулось содержимое. Отчего мысли тут же метнулись к истории с пижамой Прокофьева.
Нет, не как мясные мухи. Скорее как комары, что роились в Анапе. Облепляли все тело, пили кровь.
Стоя на лестничной площадке, он думал, что властен над своими мыслями. Но позже, в ночном одиночестве, ему показалось, что мысли сами забрали над ним всю власть. И от судеб защиты нет, как сказано у поэта. И от мыслей тоже защиты нет.
Он вспомнил, как мучился от боли в ночь перед операцией аппендицита. Двадцать два раза начиналась рвота; на сестру милосердия обрушились все известные ему бранные слова, а под конец он стал просить знакомого, чтобы тот привел милиционера, способного единым махом положить конец всем мучениям. Пусть с порога меня пристрелит, молил он. Но приятель отказал ему в избавлении.
Сейчас ни приятель, ни милиционер уже не требуются. Доброхотов и так предостаточно.
Если быть точным, заговорил он со своими мыслями, все это началось утром двадцать восьмого января тридцать шестого года на железнодорожной станции в Архангельске. Нет, откликнулись мысли, ничто не начинается таким манером, в конкретный день, в конкретном месте. Начиналось все в разных местах, в разное время, причем зачастую еще до твоего появления на свет, в чужих землях и в чужих умах.
А единожды начавшись, все идет заведенным порядком – и в других землях, и других умах.
Его собственный ум сейчас занимало курево: «Беломор», «Казбек», «Герцеговина Флор». Некто потрошит папиросы, чтобы набить трубку, оставляя на письменном столе россыпь картонных трубочек и клочков бумаги.
Можно ли на нынешней стадии, хотя и запоздало, все поменять, исправить, вернуть на место? Ответ он знал – как сказал доктор на просьбу приставить нос: «Оно, конечно, приставить можно; но я вас уверяю, что это для вас хуже».
Потом на ум пришел Закревский, и сам Большой дом, и кто в нем сменит Закревского. Свято место пусто не бывает. Так уж устроен этот мир, что Закревских в нем – пруд пруди. Вот когда будет построен рай, а уйдет на это почти ровным счетом двести миллиардов лет, нужда в таких Закревских отпадет.
Бывает, что происходящее оказывается за гранью понимания.
Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, как сказал градоначальник при виде жирафы. Ан нет: и может быть, и бывает.
Судьба. Этим величественным словом просто-напросто обозначается нечто такое, против чего ты бессилен. Когда жизнь объявляет: «А посему…», ты согласно киваешь, полагая, что с тобой говорит судьба. А посему: назначено ему было зваться Дмитрием Дмитриевичем. И ничего не попишешь. Крестины свои он, естественно, не запомнил, но никогда не сомневался в правдивости семейного предания. Домашние собрались в отцовском кабинете вокруг переносной купели. Прибыл батюшка, спросил родителей, какое они выбрали имя для младенца. Ярослав, отвечали они. Ярослав? Батюшка поморщился. Сказал, что имя чересчур заковыристое. Добавил, что ребенка с таким именем в школе задразнят и заклюют; нет-нет, Ярославом наречь никак не возможно. Отца с матерью озадачил такой неприкрытый отпор, но обижать никого не хотелось. А вы какое имя предлагаете? – спросили они. Да попроще, ответствовал батюшка. К примеру, Дмитрий. Отец указал, что Дмитрием уже зовут его самого и что «Ярослав Дмитриевич» куда приятней для слуха, нежели «Дмитрий Дмитриевич». Но священник – ни в какую. А посему в мир вошел Дмитрий Дмитриевич.
Да и что в имени? Родился он в Санкт-Петербурге, рос в Петрограде, а вырос в Ленинграде. Или в Санкт-Ленинбурге, как говаривал сам. Так ли уж важно имя?
Ему исполнился тридцать один год. В нескольких метрах от него в квартире спит жена Нита, рядом с нею – Галина, их годовалая дочка. Галя. За последнее время жизнь его, похоже, обрела устойчивость. Эту сторону вещей он как-то не характеризовал напрямую. Ему не чужды сильные эмоции, но выражать их почему-то не получается. Даже на футболе он, в отличие от других болельщиков, почти никогда не горланит, не бузит; его устраивает вполголоса отмечать мастерство – или бездарность – конкретного игрока. Некоторые усматривают в этом типичную чопорность застегнутого на все пуговицы ленинградца, но сам-то он знает, что за этим (или под этим) таятся застенчивость и тревога. Правда, с женщинами он пытается отбросить застенчивость и мечется от нелепой восторженности к отчаянной неуверенности. Как будто невпопад переключает метроном.
И все равно жизнь его в итоге обрела некоторую упорядоченность, а вместе с нею – верный ритм. Правда, сейчас опять вернулась неопределенность. Неопределенность – это эвфемизм, если не хуже.
Стоящий у ноги чемоданчик с самым необходимым напомнил о несостоявшемся уходе из дома. В каком же возрасте это было? Лет в семь-восемь, наверное. А чемоданчик он в тот раз прихватил? Нет, вряд ли – мама бы не позволила. Дело было летом в Ириновке, где отец служил на руководящей должности. А Юргенсен нанялся разнорабочим к ним в дачную усадьбу. Мастерил, чинил, с любым делом справлялся так, что даже ребенку любо-дорого было смотреть. Никогда не поучал, а всего лишь показывал, как из деревяшки получается хоть сабля, хоть свистулька. А однажды принес ему свежий торфяной брикет и дал понюхать.
К Юргенсену он тянулся всей душой. Говорил, обижаясь на кого-нибудь из домашних (а такое случалось нередко): «Ну и ладно, уйду от вас к Юргенсену». Как-то раз, утром, еще не встав с постели, он уже высказал вслух эту угрозу, а может, обещание. Мать не заставила его повторять дважды. Одевайся, приказала она, я тебя отведу. Он не спасовал (нет, собрать вещи не удалось); Софья Васильевна крепко сжала ему запястье и повела через луг в направлении избушки Юргенсена. Поначалу, беспечно вышагивая рядом с мамой, он хорохорился. Но вскоре уже плелся нога за ногу; запястье, а после и ладошка стали высвобождаться из материнских тисков. В ту пору ему казалось, что это он вырывается, но теперь стало ясно: мать сама постепенно его отпускала, палец за пальцем, пока не освободила полностью. Освободила не для того, чтобы он ушел к Юргенсену, а чтобы разревелся и бросился назад, к дому.
Руки: одни выскальзывают, другие жадно тянутся. В детстве он боялся мертвецов: вдруг они поднимутся из могил и утянут его в холодный, черный мрак, где глаза и рот забьются землей. Этот страх мало-помалу отступил, потому что руки живых оказались еще страшнее. Петроградские проститутки не считались с его юностью и неискушенностью. Чем труднее времена, тем настырней руки. Так и норовят схватить тебя за причинное место, отобрать еду, лишить друзей, родных, средств к существованию, а то и самой жизни. Почти так же сильно, как проституток, он боялся дворников. И тех – как их ни называй, – кто служит в органах.