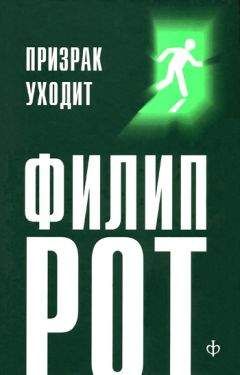Людмила Улицкая - Люди города и предместья (сборник)
Клинский поезд уходил через минуту, и я успела сесть в последний вагон. Поезд тронулся, и я пошла по вагонам по направлению к головному.
Некоторые из дверей набирающего скорость поезда оставались открытыми. Дерматиновое покрытие лавок местами было содрано, торчало желтое пенопластовое мясо и деревянный костяк. Веселый сквозняк влетал в вагоны сквозь разбитые окна. Подсолнечная лузга и бумажный мусор хрустели под ногами. Дачный народ сжимал продуктовые сумки коленями. Разруха была определенная, но не окончательная. Так, небольшая репетиция. Все-таки еще существовало расписание, хриплый знакомый голос объявлял: «Следующая станция…», в проходах налаживались славные картежные компании.
За окнами тянулся безобразный пригород, на железнодорожных откосах, в крапиве и лебеде, группами и парочками сидели мои соотечественники, потягивали винцо и курили, поплевывая в жухлую травку, и им было хорошо. Один молодой парень встал, расстегнулся и направил струю в сторону электрички. Он смеялся, обнажив розовые десны, хорошо заметные на таком малом расстоянии…
В том году я была в Афинах, видела закат в Сунионе, у храма Посейдона, где Эгей бросился со скал, и была в Иерусалиме и сидела на берегу Мертвого моря, откуда Лот, не оглядываясь, шел за божественным посланником… И вот теперь, при виде косого августовского света, скользящего по жухлой траве засранного откоса, глотаю комок в горле… Почему это убожество так трогает? Чья-то нога пнула мою сумку, и я ее отодвинула. Напротив сел человек лет сорока, в меру пьяный, о чем тут же и объявил:
— Да, выпил немного. За Россию!
Я нисколько не возражала. Из расстегнутого ворота трикотажной рубашки вырастала стройная шея. Зубы белые, глаз веселый и карий.
— Я за Россию для русских! Это тебе не Америка. Не для черножопых!
Он выстраивал свою концепцию легко и непринужденно: он поносил всех, от англичан до японцев, прошелся по всем буквам алфавита. Все нерусские были прокляты. Я даже испытала некоторый укол по национальному самолюбию: как еврейка я привыкла держать пальму первенства в своих руках, а тут мне в привычной пальмочке отказали, поставили в один ряд со всеми прочими черножопыми. Наметив концепцию в общих чертах, мужик остановился на способах ее практической реализации:
— Значит, так! С силами соберемся — и всех порежем! Ох, весело будет!
Глаза его сверкали честным пугачевским блеском. Обращался он поначалу не ко всем вообще, а ко мне лично — доверчиво и дружелюбно, словно я заведомый его сторонник и никак не могу держаться других мыслей. Я молчала и решала про себя задачку, с чего это он ко мне обращается: не признал во мне черножопую или желает чуть погодя пролить белый свет на мою нерусскую зловредность. Указав на медленно ускользающую за окном станцию Левобережная, он сказал мне доверительно:
— Вот, ты посмотри! Канал, да? Его кто строил-то, знаешь? Двадцать тысяч заключенных! Сталин всех повинтил — и построили! А вы, коммунисты, что построили? — неожиданно строго спросил он у меня, но я не готова была держать ответ за коммунистов. — Только всё распродали да разворовали! Что Петр взял, всё продали!
Он говорил азартно, всё громче и громче, и уже полвагона его слушали, но как-то вяло и без душевного отклика, и он уже обращался не ко мне, а ко всему вагону, к людям, отводящим от него глаза.
— Кто войну на своих плечах вынес, я спрашиваю! Кто?
Но никто ему не отвечал. Все смотрели мимо с неловкостью и опаской.
— Демократы ваши? — и тут он употребил замысловатую фразу, в которой были ловко увязаны репродуктивные органы собаки, сибирский валенок, медный таз и чье-то анальное отверстие.
Слегка колеблясь в проходе, восходил второй герой. С улыбкой узнавания он приблизился к оратору. Остановился. Ему было под шестьдесят, загорелая лысина украшена давним петлеобразным шрамом, и он тоже уже принял на грудь, облаченную в чистую джинсовую рубашку.
— Вот именно! — похвалил он кареглазого, и я отодвинула сумку, пропуская его в проход между лавками.
— А ты — за Россию? — строго спросил кареглазый.
— За Россию, — кивнул лысый.
Кареглазый хитро сощурился, прямо-таки по-ленински, и задал вопрос на засыпку:
— А за какую Россию?
Лысый растерялся:
— Ты что имеешь в виду? В смысле — за старую или за новую?
— Не врубаешься! Старую… — саркастически улыбнулся кареглазый. — Ее еще надо проверить, старую-то! Возьми, к примеру, попов, кадилами опять размахались. Как телевизор ни включу, всё машут и машут. Однозначно!
— Однозначно, — подтвердил лысый.
Но кареглазый, видно, решил провести проверку по всем швам:
— А вот скажи-ка мне, ты пьяница или алкоголик?
Лысый приобиделся:
— Почему это? Я так, любитель…
И он вытянул из аккуратной, искусственной кожи сумочки початую бутылку вина.
Первый взял ее, посмотрел на этикетку:
— «Салхино». Шестьдесят два рубля. — Потом ткнул пальцем и, отметив ногтем полосочку на этикетке, объявил:
— Вот я сейчас выпью до этой полосочки, и будет как раз на десятку.
Что и сделал. Самым точным образом. После чего вынул из кармана горсть мятых бумажных денег, выудил десятку и стал засовывать ее в карман лысому.
— Да ты что, — удивленно отвел десятку лысый, — да мы что, не русские, что ли?
— Это ты верно, — удовлетворенно кивнул кареглазый. — Верно говоришь. Русские. Вот соберемся и резать пойдем.
— Кого? — полюбопытствовал лысый.
— Да нерусских! — широко и добро улыбнулся кареглазый. — Чтобы здесь под ногами не путались! Ох, кровушки пустим!
— Да на что? — удивился лысый. — С чего это я пойду резать? Охота была!
— Вот она, лень-то русская, — укорил его собеседник. — Под лежачий камень вода не течет.
— Да хрен бы с ней, пусть не течет. Пусть хоть лень, — согласился лысый с милейшей улыбкой, выжавшей круглые детские ямочки на пухлых щеках.
Русскую лень они по-доброму осудили, и на этой мирной ноте я вышла в тамбур. Приближалось мое Подрезково.
В тамбуре тоже было интересно. Одна дверь была сломана, и пыльный дорожный ветерок набивал тугим воздухом тамбур. Возле второй двери, что сломана не была, стояли две молодые парочки. Те, что ростом были поменьше, самозабвенно обнимались, а более рослые уже покончили с прелюдией, победитель в черной рубашке уже попал в цель и деловито совершал таинство, энергично позвякивая пряжкой брючного ремня не в такт замедлявшемуся движению поезда. В боковом зрении мелькнула длинная белая шея и запрокинутый подбородок прекрасной дамы. Я с облегчением спрыгнула на подкатившуюся под ноги платформу.