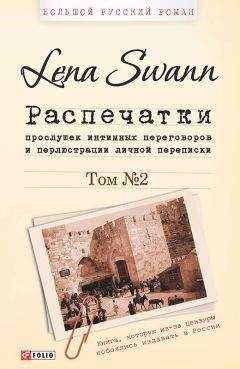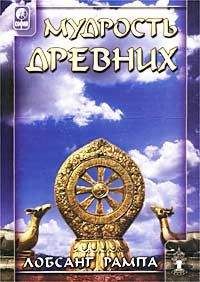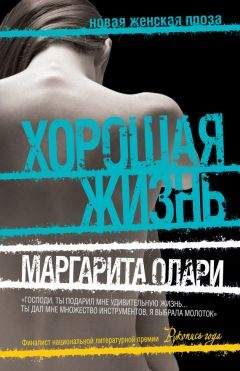Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1
Жгучая боль, ощущаемая ею от всего этого, была примерно такой, как если бы вдруг отловила какого-нибудь живого носителя арамейского языка времен земной жизни Господа — и теперь выла от того, что вместо того, чтобы всю жизнь изучать арамейский, когда и время было, и силы — зачем-то вместо этого жизнь потратила на изучение языка земного отребья. Даже друзья — на фоне сверкания Темплеровской интеллектуальной и духовной роскоши — казались страшно советскими!
Ан нет — приходила на следующий день в школу — видела Анюту, Дьюрьку — и с внутренними слезами благодарности Господу, с улыбкой, и со счастливым жаром в сердце, каялась в минутном своем снобизме: Дьюрькина неподражаемая вспыльчивость, Дьюрькино веселое дружеское целомудрие, Дьюрькина традиция краснеть, как томат, по любому поводу — и Анютина близорукая мечтательность, Анютин вкус к живописи, Анютина удивительная, чуткая безоговорочная заботливая любовь — все эти драгоценнейшие драгоценности, которые Елена так в друзьях любила! В конце концов Елена сказала себе, что друзья — разные, как звезды — но равно горячо любимые — должны как звезды и сиять — и что при приближении к любой из этих звезд возможна турбулентность — которая, однако, света их ничуть не умаляет.
По большому счету, в эти последние — перед отъездом в Мюнхен — десять дней — взрывающиеся от насыщенного, простого и сложного — бурного — и молитвенно-плавного — всё одновременно! — внутреннего счастья, даже бедная Анастасия Савельевна настроения всерьез подпортить не могла. Видя, как Анастасию Савельевну колба́сит от завтрачных, обеденных и ужинных молитв — чтобы не сводить совсем уж ее с ума, Елена, из соображений человеколюбия, начала молиться, перед тем как идти есть, в своей комнате, затворяя дверь — и только потом уже выходила в кухню — и ограничивалась тем, что кратко осеняла себя крестом.
Карикатура на гонения на ранних христиан продолжалась. Анастасия Савельевна с криками в истерике выносилась из кухни даже и от крестного знамения.
В следующий раз Елена попробовала другую методу: физически крестилась и молилась в комнате, а потом, выйдя в кухню, только внутренне творила крест — и молилась, внутренне прося Божьего благословения и помощи — и в том числе для Анастасии Савельевны — уже молча, за столом.
— Ууууу, юродивая! — немедленно же, опять схватив свою тарелку и выскакивая из кухни, разоралась Анастасия Савельевна. — Я же вижу, что ты, даже когда молчишь молишься! И эта улыбочка твоя счастливая, юродивая! Чему ты радуешься сидишь, а?! Уууууу… Юродивая! Видеть не могу! — и на полную громкость включила у себя в комнате, как какую-то известную, знакомую защитную бетонную стенку, дурацкий телевизор.
А Елена, быстро доев сырники с Ужаровским черносмородиновым вареньем вязкой долгой варки, дохлебав чай и выйдя в прихожую, натягивая кроссовки, с ужасом осознавала, что ведь выкрики все эти материны — не Анастасии-Савельевнины, не из сущности Анастасии Савельевны, не из Анастасии-Савельевниного сердца ведь — а что действительно въелся в несчастную Анастасию Савельевну, впитался в ее поры, коллективный советский бес — атаковавший на протяжении всей Анастасии-Савельевниной жизни не только ее, но и всю нацию — через глаза, уши, телевизор, радио, на работе, в школе, в детском саду — везде! — эдакий вездесущий демонический геноцид!
— Куда собралась? А?! — выскакивала вдруг из комнаты Анастасия Савельевна. — Я ведь так и чувствую, что ты с лагерником этим встречаешься!
И Елена, с удивлявшей ее саму любовью и соболезнованием, блаженным беззлобием изнутри наполняясь — зримым, лучезарным действием благодати, после крещения, в общении с Анастасией Савельевной, Елену не покидавшим — от всего сердца обнимала мать.
— Не лезь ко мне со своими юродивыми объятьями! — раздраженным, не своим голосом, в спазме какой-то испуганной злобы, даже тембр (прекрасный, бархатный — в обычной жизни, низкий тембр) уродовавшим, сдавливавшим, фальшивые нотки вызывавшим — вскрикивала Анастасия Савельевна. — Ты мне отвечай: куда собралась шляться опять?
— В церковь, мамуля, — целуя ее в щеку говорила Елена.
И, оставив растерянную, рассерженную, издерганную, испуганную, злобную, несчастную, Анастасию Савельевну в прихожей, тихо прикрыв за собой входную дверь, выходила вон.
Дойдя до грязно-серебристого телефонного козырька, быстро звонила Темплерову, испрашивала разрешения забежать к нему в гости — совсем не надолго, чтобы после этого как раз успеть к вечерней службе в церкви — внутренне сосредоточенно каясь за человеколюбивое вранье для спокойствия (хотя и крайне относительного) истерящей матери.
В церкви в эти дни она почему-то особенно явственно чувствовала минутами присутствие рядом бабушки Глафиры: войдя морозным ясным утром в храм — прогуляв, заявившись в будний день вместо школы, когда еще мало было народу, и свечки на сверкающих стойках только просыпались, жмурились, щелкали, — и пройдя перед центральный алтарь, Елена как-то разом почувствовала, что Глафира вот здесь, с ней, справа от нее стоит, улыбается ей, обнимает этой улыбкой.
А ночью после этого увидела Глафиру во сне:
— Леночка, скажи маме, что я видела ее прошлым летом, когда она стояла у калитки! — улыбаясь, попросила Глафира — и артритной своей перекрученной родной ладошкой погладила Елену по голове — тут же из сна куда-то рассеявшись — будто приходила исключительно только для того, чтобы это сказать.
А когда Елена матери это, слово в слово, как Глафира и просила, пересказала, — Анастасия Савельевна почему-то громко разрыдалась и, не сказав ни слова, ушла к себе в комнату. А Елена растерянно вспомнила сразу — так зримо — эту древнейшую, не известно на каких ключицах державшуюся, под буйной нахлобученной шапкой цветущего хмеля, косую калитку, крякавшую как утка — пять вертикальных, приколоченных с пробелами, широких, с острым верхом (как на сказочном тыне) дряхлых досок (изнутри — две необтесанные бревенчатые доски поперек — и две по диагонали) — давно изменившие свою привычную земную сущность на какую-то каменную, булыжно-валунную, ветрами и грозами шлифуемую ипостась — темно-мокро-серые, сплошь обросшие водорослями ветро́в — мхом.
Задумчиво пожирая, вечером, неосторожно предложенные ей Темплеровской матерью очень сухие, крошащиеся (причем, по преимуществу, прямо на его письменный стол) маленькие квадратные магазинные песочные рулеты с микроном повидла внутри (предложенные именно что неосторожно — потому что в задумчивости Елена, даже в гостях, невзирая на неоднократные Анастасии-Савельевнины, с самого детства, воспитательные беседы, могла крайне быстро с невольным, неосознанным, лунатическим аппетитом, уничтожить любые по количеству запасы угощения), неудобно притулив кружку на углу стола, и ёжась от прохлады, царившей в комнате, Елена рассредоточенно наблюдала, как сам Темплеров, в торце, поглощает, с видимым шейным спазмом при каждом глотке, еду с тарелки: кажется, совершенно не замечая ни вкуса едомого, ни вообще что конкретно он ест — лишь бы скорее с едой расправиться и вернуться к разговору.
Темплеров, как очень быстро выяснилось, оказался безумно, до романтического личного экстаза, влюблен в Россию: ту, которая существовала до большевистского переворота 1917-го — и рассказывать о той, несуществующей в материальном пространстве, России мог он без умолку — с такой яркостью и яростностью, словно сам там побывал.
Николая Второго Темплеров ласково называл «Государем» — и с удивительной приглушенной мелодичностью, вкрапливая — взамен забытых слов стиха — свои, чуть заметно раскачиваясь, в такт ветхим виршам, в ярко-желтковом зареве настольной лампы, в полутьме комнаты, с той стороны письменного стола (только что, минуту назад прекратившего быть обеденным), и вперившись в Елену немигающими глазами, напевно поминал «эмалевый крестик в петлице».
Темплеров вообще оказался из тех, кто на циферблат смотрит в поисках поэзии, а в книжку заглядывает, чтобы справиться который час. Поэзии, к некоторому недоверчивому ужасу и разочарованию Елены, искал Темплеров также и в политике (в которой, на взгляд Елены, единственно важным, ценным и достойным было исключительно правозащитное, христианское преломление), и в еще более эфемерном, (ничего, кроме как игру разновеликих гордынь падшего мира, на ее-то простосердечный взгляд, не отражающем) предмете, как философия истории. Как ей казалось, подобное приложение гениального Темплеровского интеллекта — это все равно, что использовать изощреннейщий телескоп для изучения и лечения прыщей на роже безнадежного, запойного пьянчуги, находящегося на последней стадии белой горячки. Внешняя, секулярная история человечества, скорее, в ее воображении, походила на прогрессирующую в своем безумии галерею гибельных примеров того, как делать не надо — и иллюстрировала маниакальную, самоуничтожающую тенденцию сознательно отпавшего от Бога мира. И, по сути дела, ей лично, история человечества была интересна только редчайшими и откровенными исключениями: или, попросту говоря — откровениями; феноменами, когда в ход (замешанной исключительно на похоти власти, гордыне, жестокости и прочих милых качествах, которые обычно ставятся людским стадом вождям в заслугу) блевотной человеческой драчки — вдруг вторгалась высшая сила, высшая Божья логика — абсурдная с точки зрения земной истории. Но феномены эти в каждом из случаев такого вторжения были неповторимы, единственны — и зачем же тогда тратить силы на какие-то рассуждения около, на попытки классификации, и построения систем? Чудо никогда нельзя вдолбить в систему, нельзя чудо подчинить, поработить себе и вызывать его потом по собственной воле! Чудо не приручается! А только чудо и интересно. И никакого отношения к звериной возне, зовущейся человеческой историей, Чудо не имеет — оно этой истории внеположенно — и мирская история только и становится — ровно на миг! — интересна — в этих странных редчайших (и противных всякой земной геометрии) точках пересечения двух несоприкасающихся реальностей, когда Бог напрямую вторгается в дела мира сего, чтобы не перебили всех оставшихся в живых исповедников — и создает кратковременные защищенные делянки — чтобы праведники могли вздохнуть свежего воздуха, перевести дух — громко произнести Божье имя — и счастливо опять погибнуть — попав в кровавые зубы зверя человеческой истории.