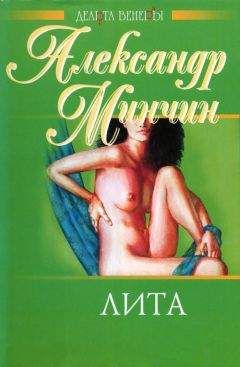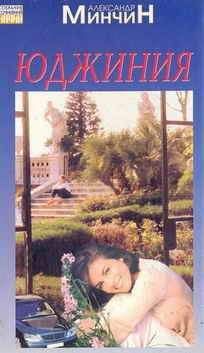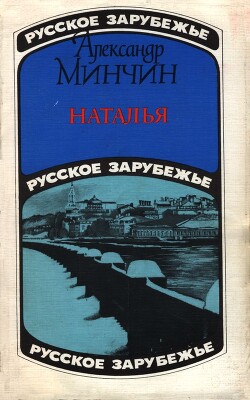Девушка с экрана. История экстремальной любви - Минчин Александр
Нас встречают возгласами, рукопожатиями и объятиями. Ипатий узнает Ариночку, и они нежно целуются.
Все в хорошем настроении, хотя никто еще не выпил. Мама подводит шеф-повара и знакомит нас:
— Это Владимир Ильич!
Круглый, как шар, директор ресторана, он же шеф, поздравляет с днем рождения и спрашивает, когда подавать запеченную картошку к моей любимой селедке.
— Я не верю, что «сам Владимир Ильич» будет нас обслуживать!
Он улыбается и уходит отдавать распоряжения.
Зал, небольшой, но уютный, закрыт специально для торжества. Стол уставлен всевозможными рыбами, языками, заливными, холодной дичью, зеленью и соленьями. Я даю знак, и на стол приносятся и открываются десять бутылок разной водки, виски, шампанского, белого и красного вина, ликера киви.
— Дружочек, — говорит Аввакум, — что-то мало бутылок, попроси шефа удвоить!
Я незамедлительно провозглашаю Аввакума тамадой. Он встает с полным бокалом:
— Несмотря на бедность и неизысканность стола, я хочу выпить за богатство и изысканность души моего друга Алексея Сирина!
Все встают, начинают со мной чокаться, поздравлять. Я вдруг смущаюсь от такого внимания.
Вечер был пущен, все начинают пить, а многие — есть. Мне кажется, что они из голодного края. Да так и есть — это голодный край. Я пью и не ем. Я дал себе слово сегодня напиться и расслабиться!
Заходит Владимир Ильич и говорит, что звонил лично Ардалион Панаев, не хотел отрывать от гостей, просил передать поздравления с днем рождения и извиниться, что не сможет приехать, так как все еще на съемках на какой-то горе.
Все с удивлением смотрят на меня, кроме гениального Ипатия.
— Сыночек, я не знала, что ты знаком с самим Панаевым. Смотри, какой ты становишься знаменитый!
Аввакум поднимает тост за мою маму. Потом все встают почтить память папы. Я пью бокал водки до дна и показываю Аввакуму — снова.
— Дружочек, ты бы закусил, а то у меня был приятель типа тебя, пил из хрустального рога, потом я его на себе тащил целую улицу.
Мама смеется, вспоминая. Дальше сыплется куча тостов и пожеланий. Меняются блюда, вокруг царит сплошное веселье, все хотят общаться с Платиновым, а некоторые — даже со мной. Он одаряет всех своим теплом и лучезарностью.
Мама наблюдает, как я пью.
— Алеша, ты так не пил никогда.
На десерт Владимир Ильич, сам, лично, вносит большой трюфельный торт, на верху которого написано: «Сирин — 33».
Зажигают на торте три свечи (потом мой друг будет петь про эти свечи), и все кричат поздравления, пока я не гашу их одним дыханием.
Десерт поедается с большим аппетитом и смехом.
Я щедро рассчитываюсь с Владимиром Ильичом (Я не мог с Владимиром Ильичом рассчитаться не щедро. За все, что он сделал…). Идем по киностудий, и я что-то громко пою. Пока нас не догоняют охранники с собаками. Им объясняют. «Мы не хотим дипломатического конфликта», — говорит охранникам Аввакум, как будто они понимают, что такое дипломатические отношения.
Я пьян. В дугу. На улице я впервые падаю — на лед лицом.
— В таком состоянии он не может вести машину, — говорит с тревогой мама. Это я еще различаю.
— Я поведу, — отвечает Арина, и все успокаиваются.
— А то мой «Мерседес» к твоим услугам, — улыбается Аввакум и ловит меня, когда я падаю, поскользнувшись, в третий раз. Лед, знаете ли, скользкий!
Арина садится за руль, и машина чудом заводится. Я думал, пешком пойдем. Зима…
— «И по тундре, по широкой дороге!», — громко ору я.
— Хорошо ты отпраздновал свой день рождения, — улыбается мама.
— Что он умеет писать, я знал, что он умеет читать, я тоже знал, но что он еще и петь умеет — этого я не знал! — говорит Аввакум.
Мы смеемся и долго обнимаемся. Юлия ждет своей очереди. Я целую ее в щеку и лоб.
Какая-то дама ведет машину.
— Ты кто?
— Я Арина. Ты уже не помнишь?
— Какая Арина?
— С которой ты спишь уже две недели, — улыбается она.
Я сгребаю ее за воротник шубы и целую в губы.
— А, вот ты какая Арина! А как ты ко мне относишься?
— Я, кажется, влюбляюсь в тебя.
Последнее, что я помню. Провал…
Утром я просыпаюсь в страхе, что пропустил или потерял что-то. Постель пуста. В ужасе хватаюсь за часы: десять утра. Меня ждут в издательстве Натали, редакторы, художники. Я пытаюсь вскочить, и как будто огненный обруч схватывает голову. «А!» — от боли я вскрикиваю и падаю на кровать. Натягиваю на себя джинсы, куртку, наматываю шарф и с не завязанными шнурками несусь к машине, едва не забывая последние страницы рукописи.
В издательство я прилетаю в десять тридцать, и Натали с легким недоумением смотрит на меня:
— Где это вас так?
Голову раскалывает сжимающий обруч. Раскалывает — сжимающий. Абсолютно неправильная конструкция. Дожил. Тогда он должен разламывать!
Подхожу к зеркальному шкафу, и мне становится дурно.
— Натали, я прошу величайшего прощения, я вчера справлял день рождения и слегка…
— Ладно уж, не извиняйтесь.
— Натали, мне ужасно стыдно, я так никогда не напивался. («А у Аввакума, а у издателя», — шепчет внутренний голос.)
— Бывает, бывает. Вот вам подарок.
Книга «Жизнь и творчество Кустодиева». Я целую ее руку и благодарю. Достаю французские духи из пакета:
— А это вам.
— В честь чего?
— В честь окончания работы над романом «После Натальи».
— Ну, мы еще не закончили. Нам предстоит безумных полдня. В три часа все закрывается.
Дальше начинается невероятное. Шесть человек работают с нами, раскладывая, складывая, сверяя, поправляя, делая макет, двигая заголовки на титулах, меняя шрифты, отделяя место для эпиграфов. Которые я очень люблю.
Натали дает команду. Мне приносят липовый чай, мятные пряники. Но ничто не может убить перегар водки. Я извиняюсь снова и снова. Она успокаивает меня опять. Я не верю, что это безумие и гонка, изменения, перепечатки, переделки когда-нибудь закончатся. На это нужны недели, а не часы. И — о чудо! — ровно без пяти три все заканчивается, и все все успевают. Я не верю и смотрю ошарашенно на Натали.
— А вы волновались, я же вам говорила, что успеем!
Я достаю из пакета бутылку лучшей английской водки и произношу:
— А теперь едем к моему прекрасному редактору — допраздновать мой день рождения.
— Так нельзя говорить по-русски, писатель! — с мягкой улыбкой произносит она. — А кто за рулем?
— Я!
— Только довезите живой. Я лишь начала готовиться к завтрашнему Рождеству.
Издательство вымерло в минуту. Как будто и не было никого. Мы спускаемся по мраморной лестнице. Я философски изрекаю:
— Лишь бы закуска была хорошая.
— Все успеем, — успокаивает она меня. Желая…
Я пью с Натали за нее, за американское Рождество, за имперское, за литературу, за гениальных писателей, молюсь и пью за выход книги.
И постепенно обруч перестает сжимать.
В шесть вечера меня соединяют с Панаевым, который отменяет нашу встречу, говоря, что едет в Белый дом, на прием в честь Буша. Я поражаюсь, почему его так интересуют политика и политики — пиявки на теле народа! Ведь он актер и режиссер.
Я забираю Арину после спектакля в театре. Она знакомит меня с кем-то, представляя как американского писателя. Они, наверно, подумали, что пьет — как имперские. Судя по лицу.
Дома она садится на меня верхом и сообщает, что из-за моего дня рождения (из-за того, что я родился) была потеряна целая ночь. А остается всего лишь три. И до утра она не дает мне спать. Свое обещание она с лихвой выполняет. У нас начинается невероятная скачка.
Потом орловский рысак делает еще три забега. И как-то странно, но голову совсем отпускает.
Ариночкина пипка имела на меня оздоровительное действие. «А на кого нет?!» — думаю я, засыпая.
Снег на кладбище в метр, чернеющие на фоне его белизны памятники, покой. Я один с папой. День его рождения. Памятник — никакой, а жаль, он заслужил быть до небес… Падает с ветки снег, пробежал пушистый зверек. Я тихо плачу, прикусив губу. Почему мы обречены терять все дорогое и близкое? Тишина, нет ответа.