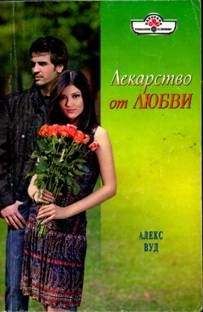Переходы - Ландрагин Алекс
— Добрый день, мадам Иоланда, — задыхаясь, выпалил я, каждый удар сердца кинжалом вонзался мне в грудь. — Хорошо, что вы, несмотря ни на что, еще не закрылись.
— Добрый день, месье, рада вас снова видеть, — откликнулась мадам. — Работы у нас хоть отбавляй. У вас все в порядке?
— Да-да, — пропыхтел я, — все хорошо. — Я согнулся, пытаясь отдышаться. — Просто… встретил тут… нежелательного человека.
— Вы сюда с проблемами? Вы же знаете, мы проблем не любим.
— Что вы, мадам, никаких проблем… двенадцатый номер, пожалуйста.
— Двенадцатый — номер Симоны, месье. Как вам известно, Симона принимает посетителей только по предварительной договоренности, исключений не предусмотрено.
— Ах, ну да, конечно, Симона, простите, из головы вылетело. А одиннадцатый?
— Одиннадцатый — Полетта. Вы желаете видеть Полетту?
— Да, Полетту. Благодарю вас.
Мадам Иоланда оглядела меня, сощурившись, а потом передернула плечами и вручила мне ключ. Я заплатил обычную сумму, добавив мадам на чай. В ответ она одарила меня намеком на улыбку, давая тем самым понять, что, хотя она и не одобряет моего поведения, я могу рассчитывать на ее молчание.
Скрючившись, чтобы меня не было видно снизу, я прошел по коридору, где слева находились двери в номера, а справа — окна, выходившие в аркаду.
Открыл дверь одиннадцатого номера, шагнул в умиротворяющую тишину. Дверь оставил приоткрытой, чтобы видеть, что творится внизу.
— Добрый день, месье, — раздался за плечом голос Полетты. — Давненько я вас не видела.
— Здравствуйте-здравствуйте, любезная Полетта, — ответил я, вглядываясь в дверную щель. Аркада была неподвижна, как на открытке. Никакого Венне и его преследователей, лишь какая-то дама выбирает журнал в газетном киоске и несколько юнцов пялятся на витрину табачника. Я закрыл дверь, запер ее и повернулся к Полетте. Она расположилась на разобранной постели, одно колено приподнято, одета лишь в черное неглиже и шелковые чулки, густо накрашена. В углу светился парчовый абажур, из старого фонографа неслись голоса скрипки и гитары. В комнате пахло духами и гашишем.
— Простите за уловки, — сказал я, снял пиджак и шляпу, положил на табуретку рядом с фонографом. Подошел к постели, присел на край, отвел выкрашенную и начесанную светлую прядь с лица Полетты, чтобы увидеть ее серо-голубые глаза, некогда меня очаровавшие. Теперь они не вызывали никаких чувств.
— Чего изволите? — поинтересовалась она.
— Просто побудьте со мной.
— Ясно. Больше ничего?
— Если постучат в дверь, я вас поцелую. В противном случае просто побудем вместе.
Она вытянула руку, достала колоду карт.
— На мой взгляд, в минуту душевной смуты нет ничего лучше двойного пасьянса.
— Мне это прекрасно известно.
[51]
Дворец правосудия
Когда в тот вечер я вернулся в свое жилище, оно ударило меня наотмашь своей пустотой. Мне почудился слабый аромат сандалового дерева, и я стал подносить к носу самые разные предметы — подушку, простыни, полотенца — в поисках более внятного запаха ее присутствия. Мелькнула мысль: а вдруг Мадлен вернулась, томно вытянулась на моей кровати, в одной из моих рубашек, лежит и курит «Саломе». Хотелось сказать ей, что она была права, что аукцион прошел в точности так, как она и предсказывала, что я выполнил все, о чем она меня просила, что я зря сомневался в ее правоте. Но разговаривать с Мадлен я мог только в мыслях. Эта воображаемая Мадлен была совершенно как живая — я обнаружил, что общаюсь с ней, продолжаю наши долгие беседы, вот только больше ее не потрогать, не приласкать, не обнять. Я чувствовал, что на сей раз она не вернется. Но, по крайней мере, мне от нее на память остался сувенир.
Я оглаживал холодный металлический корпус пистолета, будто под пальцами у меня была плоть Мадлен. Я знал в точности, почему она его оставила. Мы об этом говорили. Она просила меня сделать для нее одну вещь, нечто противное совести. Хотела, чтобы я совершил преступление — говоря точнее, убил человека. Причем не просто человека: она просила меня убить Коко Шанель. Спрашивать зачем было бессмысленно, голосом Мадлен говорила ее паранойя, известная также и под другим именем: сказание об альбатросе. О том, чтобы совершить этот поступок, не могло быть и речи. Даже если бы я на такое решился, где взять патроны?
Пришло письмо пневматической почтой — его подсунули мне под дверь — от Фрица. Он несколько ночей куковал на платформе Лионского вокзала в надежде получить место в уходящем на юг поезде и вот купил два билета на состав, который отправляется завтра утром, второй билет, если я того пожелаю, он отдаст мне. Я ни под каким видом не мог принять приглашения. Я слишком глубоко погряз в истории с Мадлен и рукописью.
Ночь я провел без сна во власти воспоминаний; рассвет принес облегчение.
Утром, во время привычной прогулки, я отправился на вокзал, обогнув Монпарнасское кладбище, которое еще не открылось. Память о нашей встрече — всего-то неделю с небольшим назад, хотя, казалось, прошла целая эпоха, — терзала непереносимой мукой. Лионский вокзал кишел унылыми встрепанными парижанами, многие провели тут много дней в надежде уехать из города до прихода немцев. Я отыскал Фрица, он стоял в длинной неподвижной очереди в надежде сесть на поезд на паровой тяге — ради этого исхода вернули на службу паровозы, давно отправленные на пенсию. Вокруг расположились на земле целые семьи в окружении своего багажа и имущества: зонтов, цветочных горшков, кур, кофеварок, птичьих клеток, постелей, занавесок; они дожидались очереди уехать следующим поездом или тем, которые отправится за ним. Фрица я увидел издалека, однако заговорили мы только сблизившись, чтобы никто не донес, услышав нашу немецкую речь.
— Где твой чемодан? — удивился он.
Я ответил, что уехать не могу, пусть он отдаст кому-нибудь лишний билет. Он ошарашенно взглянул на меня.
— Почему?
Я беспомощно посмотрел на старого друга.
— Все жду, когда друзья-американцы пришлют денежный перевод.
— Если только в этом дело, я могу ссудить тебе. Пусть шлют в Марсель.
— Есть еще одна загвоздка: некая рукопись.
Слушая себя, я понимал, каким бредом кажутся ему мои слова. Упоминать Мадлен, с которой он так и не познакомился, не хотелось, и меня тревожило собственное нежелание. Кого я стыжусь — ее или самого себя?
— Рукопись! — Не сдержавшись, он улыбнулся и покачал головой. — Ты собираешься рискнуть жизнью ради рукописи!
Я пожал плечами, будто бы говоря: тут ничего не поделаешь, ехать не могу. Он грустно кивнул:
— Понятно. Ну ладно, передумаешь — отправляйся в Марсель, это твоя единственная возможность выбраться из Франции живым. Дай мне о себе знать в отель «Сплендид».
Поблизости стоял какой-то юноша в кепке и длинных шортах, вид у него был потерянный. Фриц предложил ему лишний билет, мальчуган так и засиял от радости. Мы все стояли и курили, пока не прозвучал свисток и очередь не начала двигаться. Пассажиры один за другим заходили в вагоны, затаскивали свои пожитки. Поезд исчез в клубах дыма и пара.
С вокзала я пошел к реке и к острову Сен-Луи, потом — через Сите к набережной Малаке. Несмотря ни на что, некоторые букинисты открыли свои лотки, раскладывали товар, прихорашивали, обменивались сплетнями, курили. Если бы через мост Сен-Жермен не тек поток эвакуирующихся на телегах и грузовиках, можно было бы подумать, что стоит обычный солнечный день. У самого моста я приметил грушевидную фигуру книготорговца Лануазле в вечных его круглых очках и черном берете. Я был его клиентом много лет, и мы доверяли друг другу. Обменялись кивками, поздоровались. Я пролистал детективные романы у него на полках. Почти все я читал, некоторые по несколько раз, и все же отыскал парочку, про которые подумал, что будет не так уж противно прочитать их снова.
— Кстати, — заметил я, будто речь шла о чем-то незначительном, — не слыхали вы про букиниста по имени Венне?