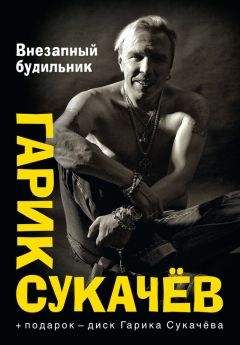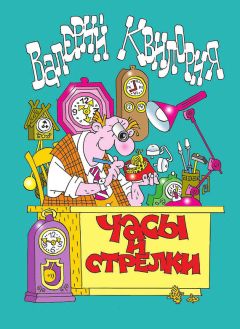Сергей Говорухин - Прозрачные леса под Люксембургом (сборник)
Порой, вглядываясь в замкнутое пространство за окном, он думал уехать к кромке Северного Ледовитого океана или оказаться в госпитале после тяжелого ранения и в редкие минуты прояснения наконец увидеть ее…
«Бедный, милый мой мальчик», – скажет она.
Это было нелепо, и глупо, и как-то уж совсем по-детски – он стыдился своих мыслей, смеялся над ними и продолжал думать.
Он думал о незнакомых городах, где мог бы жить с ней одной, ничего не замечая вокруг. В этих городах так же дребезжали трамваи, по вечерам зажигались окна домов, но это были другие города, и только в них они принадлежали самим себе и больше никому.
Да, это было наваждение, но наваждение немолодого человека, прожившего большую и такую разную жизнь, в которой, как казалось ему, уже не оставалось места для душевной смуты.
Он знал: она не поймет, не примет его объяснений, в конце концов, не поверит. Необратимость возникшего чувства сводила его с ума – случалось, что он часами сидел в пустой комнате и ждал ее.
Так продолжалось долго: его тоска, ее безразличие.
Иногда, угадывая необъяснимый свет в его глазах, она отворачиваясь к окну, на мгновение задумывалась: на кого он смотрит так, как никогда не смотрел на нее?..
1998Вернувшись, я уйду…
Очнувшись и увидев перед собой уходящую под потолок стерильную белизну кафельных стен, он спросил:
– Где я?
– В реанимации, – отвечала она.
– Почему?
– Что почему?! – она почти срывалась на крик – ее до сих пор трясло от пережитого.
– Почему не в палате? – спросил он так, словно чувствовал за собой вину.
– Ты умирал, – сказала она и заплакала. – У тебя остановилось сердце…
И удивилась своим слезам. Казалось, что за эти мучительные безнадежные дни она выплакала себя до конца. Но вот он открыл глаза, заговорил, и опять стало нечем дышать.
– Они еле тебя вытащили…
Он молчал, упрямо пытаясь сосчитать количество плиток в одном ряду. По горизонтали, по вертикали… И все время сбивался со счета.
– Дай закурить.
– Тебе нельзя.
– Дай.
Она прикурила ему сигарету.
– Сколько это длилось?
– Вечность.
Он сделал две затяжки, протянул ей недокуренную сигарету.
– Забери.
Она подошла к умывальнику, подставила окурок под струю воды.
– Оказывается, это совсем не страшно… – сказал он.
– Что? – она повернулась к нему.
– Уходить… Я шел по Млечному пути. Совершенно один. – Он закрыл глаза. – Подо мной были звезды…
Струя размыла окурок, и сейчас по грязно-коричневой поверхности воды плавали обрывки сигаретной бумаги и размокшие крошки табака. Раковина была засорена…
А он шел по Млечному пути…
Прислонившись к окну, она в который раз увидела заметенный снегом прямоугольник больничного двора, уродливый остов строящегося корпуса, грязных ворон на голых сучьях осин…
«Все это наша жизнь…» – подумала она.
Вспомнился Пастернак с его февралем и чернилами, которые непременно нужно было достать и плакать. Хотя можно плакать и без чернил. Сейчас был февраль.
Он лежал, выпростав руки из-под одеяла, и рассматривал толщину швов между плитками. Швы были разными – плитку положили криво, безалаберно, и он подумал: почему, вернувшись с того света, человек обречен увидеть не небо, не звезды, а чью-то небрежную бездарную работу. Почему?
И в то же время он был благодарен плиточнику – глядя на идеально ровную плитку, ему бы не о чем было думать. Как теперь не о чем было говорить.
– Значит, все по-новому, – сказал он.
– Что?
– Опять по новому кругу…
– Ну, что же делать! – в отчаянии сказала она, потому что уже не знала, что сказать.
– А знаешь, я разговаривал с Чеховым. И Пушкина видел. Он сидел на берегу и ждал…
– Кого ждал? Зачем? – машинально спросила она.
– Дантеса… А Дантес дрался с Лермонтовым… Я его спросил, ну, в смысле, Пушкина: что же вы так из-за бабы? Неужели не могли иначе рас… распорядиться своей жизнью…
– Какой бабы? Ты о чем?
Она ничего не понимала, и от этого непонимания ей становилось не по себе.
Ему стало тяжело дышать. И почти ничего не было видно.
– Потом пришел Дантес и убил всех. И Пушкина и Чехова. И меня…
Она поняла, что он заговаривается.
– Он был классный стрелок, Дантес… Умел опережать на один шаг… И Лермонтова…
Она бросилась из палаты, закричала в пустоту коридора:
– Сестра! Доктор! Сестра!
И еще что-то. Долго, пронзительно…
– Он умер, – сказала сестра, опуская его безжизненную руку.
– Электрошок сюда! Быстрее же! Ну быстрее же, вы! – кричал в открытую дверь врач.
Она подошла к постели, опустилась на колени и положила голову ему на грудь.
– Не надо, – тихо сказала она. – Он не хотел возвращаться.
Но ее никто не услышал.
1999Сочинение на уходящую тему
Головокружительно уходит вперед технический прогресс. Я и не пытаюсь бежать с ним наравне. Отпущенного на мой век времени остается все меньше и меньше.
Или я его прожил?
Для чего мне Интернет? Вернет ли он прошлое?
А собственно, зачем оно мне, прошлое? Потому что беспомощен перед настоящим. И совершенно не могу представить будущего.
Говорят, посредством Интернета можно общаться со всем миром. Это нам-то, не способным услышать друг друга.
Всю жизнь размышлял о самоценности мысли, не высказанной вслух. «Размышлял о мысли» – стилистический оборот писателя. Но я действительно размышлял, а тем временем мысли наслаивались друг на друга, перебивали непредсказуемостью ассоциаций, и было необходимо, бросив все, записывать, записывать… Но уже терялась связующая нить, исчезали первозданность и глубина, и бумага являла собой жалкие выжимки вдохновения.
Вдохновения, растворившегося внутри.
Изобретен речевой адаптер. Наговариваешь на него все, что приходит в голову, и в тоже мгновение сумятица твоих мыслей воспроизводится на экране монитора.
Долгими безумными ночами я ломал ручки и разбивал в кровь пальцы – тогда мне довелось узнать, как не успевает за мыслью рука, держащая перо.
Речевой адаптер, с которым можно разговаривать часами. Позже бы я отсекал лишнее, словесную чепуху, добираясь до каркаса своего замысла, и был бы упоительно счастлив этой работе.
Мне нужен адаптер, и нет на него денег.
На главное, составляющее основу нашего предназначения, всегда не хватает денег. Художнику – на кисти, мне вот – на адаптер.
Так проходит жизнь.
Речевой адаптер – часть технического прогресса. Возможно, лучшая. Примирил бы он меня с действительностью? Не знаю. Все чаще я прихожу к выводу, что скоро моим единственным читателем буду я сам.