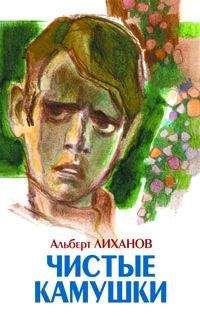Альберт Лиханов - Невинные тайны
Павел сознавал: это чувствование много значит для самих детей. Дома у них осталось всякое, а тут это всякое как бы забыто, и всем выдан чистый лист — пиши себе заново, пробуй, никому тут, в этом радостном лагере, нет дела до твоих прошлых прегрешений, как, впрочем, и заслуг и достижений — все можно и нужно начать заново, и тот, кто стоит чего-то сам по себе, может подтвердить собственные домашние заслуги — пожалуйста, а если у тебя не выходило раньше — давай-ка попробуй здесь!
Все равны тут перед морем, перед ясным мальчишеским товариществом и перед вожатым, если он смотрит на тебя, подбадривая. Но к этому требовалось еще прийти. Через долгие, перегруженные событиями дни смены. Конец, а особенно расставание возмещали многое, в конце Павел всякий раз явственно ощущал, что начальная недостаточность знаний о детях только помогала ему — помогала относиться ко всем без предвзятостей, без предубежденности, это равенство выпрямляло и ребят, некоторые самолюбцы, всякие там сверхотличники и суперактивисты порой обижались, даже шлепались, больно ударялись своими самолюбиями о гранит равноправия, который был верховной истиной в отряде Павла, но это оказывалось благом для них же самих, всем приходилось утверждаться сначала и на равных, так что справедливость торжествовала без всяких там сегрегаций.
И все же всякий раз в начале смены Павел испытывал острую недостаточность знаний о ребятах, доверенных ему лагерем.
И еще одна мука преследовала его: тот маленький афганец с автоматом в руках. Тот маленький покойник, чей прах зарыт неизвестно где. Мальчишка с автоматом нет-нет да являлся к Павлу в его усталые сны, и Павел просыпался снова раненым.
В то утро он опять со страхом выскочил из сна, спасаясь от черного зрачка автоматного ствола. Впрочем, как-то он все же знал, что это сон, испытание не повторится, хотя автомат направлен в его сторону, и единственное, за что он боялся, так это за мальчишку, изготовившегося к стрельбе.
Стряхивая с себя наваждение, оглядывая комнату, всматриваясь в море, которое шелестело, посверкивало за тюлевой занавеской змеиной живой кожей, он решил, что на этот раз должен позвонить в один, другой, третий детский дом и узнать побольше про ребят из необычной смены.
* * *После вахты на спасательной станции полагалось вернуться в отряд, доложить дежурному о прибытии и жить дальше по общему плану, но, как только они сошли на пляж, Зинка сказала:
— Давайте удерем!
— Куда тут удерешь? — удивился Генка.
— Зин! — проканючила Катя. — Еще выгонят!
— Нас не выгонят! — уверенно усмехнулась Зинка. — Пожалеют. А удрать всегда есть куда! Если вы не трусы.
Она говорила всем, а смотрела только на Женю, и ему стало неожиданно жарко от этого до нахальства прямого взгляда.
— Конкретнее! — попробовал он осадить эту наглую Зинку. — Куда бежать, в самом деле? Вокруг забор.
Но Зинаиду было совершенно невозможно сбить с толку, она уже, похоже, раскусила главный Женин прием, его видимое хладнокровие, рассудительность, с помощью которой у людей, стоящих на ногах нетвердо, отбивают всяческую спесь.
— Как куда? — пожала она плечами, все не отрывая взгляда от Жени.
— Раз есть забор, значит — за забор. Похоже, она была заправской предводительницей в своем детдоме — велела стать парами, себе без всяких обсуждений выбрала Женю, они пошли первыми, две пары, друг за другом, в ногу, смело подняв головы, глядя открыто в глаза встречным взрослым. Словом, четверо дежурных идут не толпой, а строем по какому-то важному делу.
— Ну-ка, — сказала Зинаида, — еще и поприветствуем эту старушку, наверное, она кладовщица, три-четыре!
Они поглубже вздохнули и выкрикнули хоровое лагерное приветствие:
— Всем-всем-всем! Добрый день!
Старушка в сером халате, семенившая навстречу, то ли действительно кладовщица какая, то ли подсобная работница, шарахнулась от неожиданности, потом скомканное ее личико расправилось в улыбке, она остановилась позади, запричитала вслед:
— Ой, дитятки, какие же вы культурные, воспитанные, спасибочки, а еще говорят, детдомовские!
— Детдомовские, баушка, детдомовские, — гаркнул, не оборачиваясь, Генка, и они все четверо чуть не лопнули от хохота, едва не рассыпав четкий строй.
— Не встретить бы только наших, — волновалась Катя, повторяя одно и то же.
— Скажем, что идем по заданию дежурного на компрессорную станцию! — сказал Женя.
— А зачем? — удивилась Катя.
— За компрессами! — ответил он, и строй снова зашатался во все стороны. — У Наташи Ростовой, — не унимался Женя, — заболела голова после вчерашнего первого бала.
Зинка смеялась, как и все, но вот глаза у нее были холодные, даже больные. Она смотрела на Женю долгим внимательным взглядом, когда смеялась, и он пожалел, что вспомнил про Наташу Ростову.
Всё катилось как по маслу. Встречные взрослые приветливо отвечали на дружное приветствие озабоченной четверки, перебирали, пожалуй, ребята, можно просто поздороваться и строем ходить вчетвером вовсе не обязательно, но у кого и когда вызывала подозрительность или хотя бы осуждение чрезмерная вежливость и дисциплинированность.
Они отшагали немало и без всяких препятствий. Появился железобетонный забор. Одна из тысяч асфальтовых лент, которыми были располосованы рощи и поляны прекрасного парка, тянулась вдоль ограждения. Уклонившись сперва к горам, ребята вновь возвращались к морю — оно уже мелькало, серебрилось сквозь деревья и кусты.
— Пора, — скомандовала Зинка.
Сначала наверх вскарабкался Генка. Женя помогал девчонкам. Они сняли сандалеты, становились сначала на колено Жене, потом на плечо, он разгибался, стараясь глядеть в сторону, а Генка помогал им перебраться на забор. Во всем этом не было, пожалуй, ничего необычного. Катька сопела куда-то Жене в ухо, норовила свалить его набок своей невозможной тяжестью, будто она не из мяса и костей, как все люди, а каменная. Настала очередь Зинки.
Ну и дурная девчонка! Вместо того чтобы лезть, да поскорей, она уставилась на Женьку. Стояла перед ним и глазела во все шарики.
— Ну! — поторопил он.
Она перекинула сандалии через забор, даже не глядя, куда кидает, подошла вплотную к Жене и легко поставила ему ступню на колено.
— Выдержишь? — шепнула она.
Короткая плиссрованная юбчонка съехала с бедра, открывая ногу до самого паха, и Женя вдруг — опять впервые в жизни! — почувствовал неизвестную прежде манящую запретность этик ног, этой кожи, которые совершенно отличались от всего, что он знал раньше о девчачьих ногах — в бассейне или же здесь, на пионерском пляже.