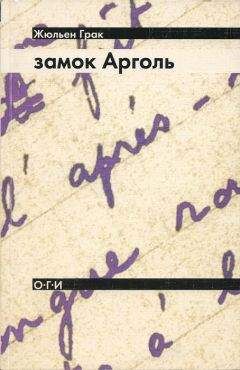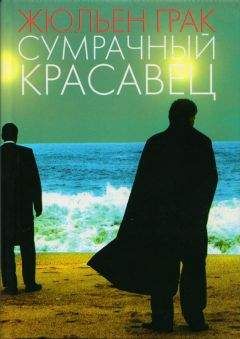Жюльен Грак - Балкон в лесу
— Окончательно?
— Окончательно.
Капитан нахмурил брови и кашлянул. Носком отшвырнул к люку пустую бутылку. Выглядел он смущенным и растерянным.
— Здесь нет ничего такого, что затрагивало бы вашу честь. — Он резко повернулся к Гранжу. — Это вовсе не вопрос чести. Уставной перевод по службе, и только. Здесь вы не на своей должности. Вы будете заменены унтер-офицером.
— Нет, — снова возразил Гранж приглушенным голосом.
Опять наступила тишина.
— Женщина? — сказал Варен.
Он изобразил едва заметную гримасу какого-то ледяного равнодушия, и Гранж подумал, что она, должно быть, является выражением его сладострастия.
— Нет, — повторил Гранж после некоторого молчания. — Не совсем так.
— Тогда что же?
— Я хотел бы остаться под вашим началом.
— Нет, — отрезал капитан, похлопав кончиками пальцев по кобуре. Его насмешливо-любопытный взгляд несколько оживил Гранжа. — Нет, навряд ли… Это бы меня удивило.
После осмотра блокгауза оба поднялись на минуту в комнату Гранжа. Капитан вручил ему документы; он мимоходом бегло взглянул на них: обычное как будто бы воркованье — то, что Гранж называл «таможня», инструкции по содержанию в порядке оборудования дотов, усиление наблюдения за границей, минирование и установка проволочного заграждения. Было, однако, и нечто новое: каталог эскизов немецких бронемашин; листая его, Гранж вдруг снова задумался. На этот раз речь о линии Зигфрида уже не шла: война быстро размякала за неизменными официальными фразами, с началом нового года она незаметно легла на новый курс.
— Гм… да! — протянул капитан, глядя поверх плеча Гранжа. — Они становятся серьезнее…
На языке капитана они никогда не означало «немцы», а всего лишь бурные сферы власти, высшее начальство, против которого он оттачивал свой ум. «В сущности он сатанист, — говорил иногда себе Гранж, удивляясь чувству симпатии, толкавшему его к капитану. — Своего бога он видит в плаще с нарукавными знаками различия».
— Я уверен, вы знаете, когда все начнется, — сказал Гранж. Улыбка получилась натянутой; недавняя размолвка между ними давала о себе знать, он снова начинал нервничать.
— Приблизительно… — произнес капитан с наигранной невозмутимостью и закурил. Кончиками перчаток отодвинул каталог. — …И поверьте, я ничем не рискую. Вот увидите, это начнется с первыми ласточками.
Некоторое время они, не зная, чем заняться, смотрели в окно; выпили еще кофе. Полуденное солнце стало уже немного ярче; просека тут и там была исполосована коричневыми пятнами. Было слышно, как капли оттепели одна за другой падают с водостоков на курятник.
— Почему вы хотите остаться здесь? — внезапно подал голос Варен. — Нет, — он разрубил ладонью воздух, — позвольте. Я не люблю добровольцев, и я знаю, что это такое. Если вы скажете мне, что хотите сражаться в первых рядах, я меньше стану вас уважать и я вам не поверю.
— Нет, — ответил Гранж, — дело в другом. Мне здесь нравится.
Он с удивлением слушал самого себя, словно не понимая, откуда ему вдруг стало известно все то, что он сейчас сказал.
— Да, видно, так оно и есть, — немного помолчав, вымолвил капитан.
Взгляд его вновь был сосредоточен на перспективе дороги.
— А вы чудак! — Он неуверенно хохотнул.
Он встал, собираясь откланяться, и подтянул ремешок каски. Облагороженное усталостью, с огромным, как у хищной птицы, носом и с тяжелыми кругами под глазами, лицо тотчас же стало красивым и суровым.
— Итак, решено, — подытожил он, протягивая руку Гранжу, и впервые в его взгляде промелькнуло что-то похожее на радушие. — «Перечитав, стою на своем», как пишут в следственных протоколах.
— Стою на своем, — сказал Гранж. — Не думаю, чтобы это вас очень обрадовало.
— Вы заблуждаетесь, мой дорогой, — серьезным тоном произнес Варен, снова зажигая сигарету. — Не так уж неприятно воевать вместе с людьми, выбравшими свой способ дезертирства.
Вечером Гранж вышел немного прогуляться. Разговор с капитаном взволновал его, надо было подышать воздухом. А удивляло его прежде всего то, что, беседуя с капитаном, он неожиданно для себя понял, как мало значила Мона в резком, почти животном желании остаться, которое его вдруг охватило.
— Чтобы здесь жить? — произнес он чуть ли не во весь голос.
Сквозь переплетение голых стволов он посмотрел на жалкий шале с его длинными подтеками ржавчины, исполосовавшими бетон и теперь уже спускавшимися до самой проволоки, палисадник, усеянный консервными банками, облупившуюся халупу курятника — и пожал плечами. Здесь или где-либо еще — для службы ему подошло бы любое место. Нет, тут другое. Восторженность, с которой он воспринимал жизнь в Фализах, дыша, как ему казалось, так привольно, как никогда раньше, больше всего походила на чувство, испытанное в далеком детстве во время каникулярной высадки на открытый всем ветрам берег моря, — это лихорадка, охватывавшая его, как только в окне поезда, еще за много километров до побережья, он начинал видеть, как чахнут и убывают деревья, тоска, которая вдруг сдавливала горло при одной лишь мысли, что его номер в отеле не будет, возможно, выходить окнами прямо на волны. А на следующий день он увидит и эти песочные замки, и сердце забьется сильнее от того только, что они стоят, потому что все знали, а в то же время и не верили, что скоро все это будет сметено приливом.
Вечером, отправив несколько писем, сочинять которые все больше и больше становилось для него неприятной обязанностью — слишком много стен надо было пробить, чтобы тебя услышали, — и подписав свой ежедневный отчет, он лег раньше обычного. Он любил читать в постели длинными зимними вечерами под шумное дыхание кают-компании, пробивавшееся сквозь тонкую перегородку; он любил, повесив ключ от блокгауза у изголовья своей кровати, ощущать, как вокруг него дом-форт, непроницаемый, замкнутый в самом себе, как корабль с задраенными люками, в походном порядке дрейфует сквозь ночь. Однако в тот вечер вместо книги он снял с планшета оставленный капитаном каталог эскизов и долго его листал. Тяжелые серые силуэты, которых он никогда раньше не видел в репродукциях, казались ему необычайно экзотическими — другой мир; в них было что-то от немецких военных машин — барочное, театральное и зловещее одновременно, — которые сквозь требования техники находят способ помнить еще и о Фафнере. «Weird»[10] — подумал он; подходящего слова во французском он не подобрал; все это он созерцал со странным смешением чувств: отвращения и завороженности. За окном с наступлением ночи припустил тяжелый арденнский дождь, барабанная дробь которого все еще приглушалась снегом. Он невольно прислушивался к шумам, доносившимся из кают-компании, опасаясь, что его застанут врасплох — как за разглядыванием неприличных фотографий.
К концу зимы Гранж получил отпуск. В тусклых лучах промозглого рассвета Париж показался ему грязно-серым, неприветливым. В отеле, где он поселился, синие лампы отбрасывали на кровать пустынно-холодный больничный свет, такой сомнительный, что все надо было проверять на ощупь. Настоящее тепло ощущалось лишь там, где жались друг к другу тела, — в светящихся гротах баров и театров; казалось, что все живое мало-помалу забилось в норы, как во времена ледников. Посещая ресторанчики, Гранж завязал несколько случайных знакомств; однако общаться ему не хотелось — не лежало сердце, но это было сердце города; Париж превратился в вокзал, в хлопанье дверей между прибытием и отправлением поездов, а ночью вдоль траншей домов угольного цвета мигали коптящие огоньки ламп. Но вот с первыми днями еще зябкой весны в скверах усаживались гуляющие; скрестив на груди руки, они созерцали город тем тяжелым взглядом, равно праздным и озабоченным, каким обводят свой дом жильцы накануне переезда. Теперь, когда огни над городом растаяли, он потерял свою пушистость, и уже начинало проглядывать его жесткое нутро; этот узел дорог, каким он был всегда, сейчас худел между армией и загородными виллами, как город Византийской империи; из глубин своих опустевших улиц он вслушивался в идущий от границ смутный грозовой гул, подпитываясь лишь истощенной кровью сверхштатных служащих да отбывающих трудовую повинность лиц.
Гранж скучал: он снова стал ездить поездом на природу. После резкого потепления на Вьене началось половодье: слюнообразная, едкая вода заливала низкие, уже зеленеющие луга; однако в Шинонских долинах на холмы уже повсюду осела легкая синева Турени; по ободранному мелколесью песчаных косогоров там и сям по сухим зимним веточкам пробегали искры — вспышки желтоватой зелени. Он покидал гостиницу рано утром, оставляя справа от себя Вьену, видневшуюся в просветах между голыми еще тополями за длинными шлейфами тумана; внезапно на излучине долины за мостом появлялся опрятный, будто сошедший со страниц молитвенника городок; встав вместе с солнцем, он цеплялся за склон невысокого холма; улицы его были усыпаны белой пылью, жавшиеся друг к другу крыши из синих чешуек выступали из утренних туманов, сверкая перламутровым блеском, как косяк пескарей, а высоко над его домами тянулась огромная и широкая куртина замка, как царский венец, который обеими руками растягивают во всю длину. Он проходил по мосту с первыми повозками крестьян, едущих на рынок, и с утра пораньше взбадривался, бывало что и натощак, в крошечном тенистом кафе, уставленном ящиками с бересклетом, слабым розовым вином с берегов Вьены, слушая, как по булыжной мостовой узких, устремленных вверх улиц катятся окованные железом тележки и двуколки.