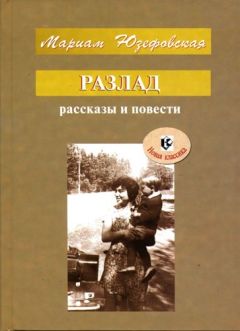Мариам Юзефовская - Господи, подари нам завтра!
– Он что? Опять приходил? – тихо ужасалась тетка.
Мои выходки напрочь выбивали ее из колеи. И потому после бури, когда все утихало и мы с сестрой, наконец, укладывались спать, она погружалась в горестные раздумья. Отколов пристежную косу, распустив по плечам рыжеватые тонкие волосики и намазавшись пахучей мазью от веснушек, садилась у стола. При скудном свете лампы-грибка долго разглядывала семейные фотографии. Я знала: она ищет сходство между мной и дедом Лазарем. Иногда тихо роняла:
– Эта девочка – точная копия майнэм мишугэнэм татэ ( моего сумасшедшего отца)».
Уже сквозь сон я слышала тихий скрип петель внутренней ставни, щелканье шпингалета и скрежет дверного засова. Так начинался и кончался день в нашей комнате на Ришельевской 12. Я подсмеивалась над теткой, повторяя слова деда:
– Боишься, что тебя украдут?
Она, обидчиво поджав губы, с силой нажимала на шпингалет.
Случалось, со слезами в голосе шептала в ответ – Твой дед и ты – самые умные на свете.
Дед появлялся у нас всегда внезапно. Маленький, юркий, рыжий и бурно говорливый, он, словно вихрь, врывался в нашу комнатушку. Следом за ним летел чуть ли не на половину пустой левый рукав его чесучового пиджака.
– Папа, – всплескивала руками тетка Маня.
Она тотчас усаживала его за стол, наливала в маленькую пузатую зеленого стекла стопку темно-багровую и густую, как кровь, вишневку. Дед осторожно отхлебывал и начинался тихий, неспешный семейный разговор. Но через минуту-другую он, резко отодвинув от себя рюмку, гневно вскрикивал:
«Медвежья голова! Слепая ослица!» Все кончалось раздором, теткиными тихими слезами. На прощанье дед бережно щекотал мою маленькую сестренку корявым веснушчатым пальцем, восхищенно цокал языком: « А шейне мэйделе (красивая девочка)».
И исчезал столь же стремительно, как и появлялся. Я провожала его до двери, где он тихо, едва заметно шевеля толстыми губами, шептал:«Приходи на Тираспольскую». Осторожно гладил уцелевшей рукой мою тугую длинную косу. В ответ я молча, со стесненным сердцем, кивала.
Походы на Тираспольскую держались в полной тайне. Там, в глубоком полуподвале, дед жил с женщиной по имени Рива, которую тетка упорно не хотела признавать. « Ты не распишешься с ней! В память о маме ты не сделаешь этого», – упрямо повторяла тетка, низко опустив голову и прижав к груди руки.
А дед наступал на нее и злобно шипел.
За гладким, отполированным тысячами прикосновений поручнем зияет черная яма полуподвала, куда ведут сбитые ступени. Маленькое пыльное окошечко, наполовину утопленное в земле, забрано редкой пузатой решеткой. Чуть ли не вровень с мощеным тротуаром – облупившаяся во многих местах вывеска: «Пошив брюк».
Как часто, настороженно оглянувшись вокруг, я ныряла сюда, в эту подвальную полутьму. Дверь, обитая жестью, в любую, даже самую жаркую, погоду, казалось, поблескивает изморозью. Тихо звякал дверной колокольчик, и дед Лазарь в узком черном переднике с небрежно перекинутым через шею потертым сантиметром, тотчас радостно вскидывался: « Кто к нам пришел!»Его напарник, безногий инвалид Егор, сумрачно кивал мне, не прерывая ни на секунду стрекотания «Зингера». Материал, точно змея, изгибаясь и свиваясь на полу в кольца, медленно выползала из-под беспрестанно снующей вверх-вниз блестящей иглы. Лишь сделав последний стежок, Егор выпрямлялся. Устало откидывался на спинку стула. Потом брал в руки костыль и, перегнувшись через стол, глухо стучал им в стенку. «Сейчас будем вечерять, – Егор хитровато подмигивал мне, – его жинка, – он заговорщицки кивал на деда, – налепила вареников».
Дед Лазарь хмурился, исподлобья смотрел на напарника и сурово осаживал его:
– Не болтай лишнего.
Красивую седовласую Риву дед неопределенно называл «Бобэ (бабушка)». Будто стеснялся ее присутствия. Я это чувствовала. И потому, краснея до слез и лепеча что-то бессвязное, обычно пыталась было ускользнуть. Но дед властно останавливал меня:«Не дури!» И я замирала.
Высокая статная Рива. Она входила, держа в одной руке кувшин с водой, в другой – белое полотенце:
– Проголодались, босяки?
Увидев меня, замирала от неожиданности, а затем яростно набрасывалась на деда:
– Что ж ты мне не сказал, что пришла моя девочка?
Кувшин, полотенце, блюдо – все, что было у нее в руках, все тотчас отставлялось в сторону. Она крепко прижимала меня к себе и горячо целовала в макушку.«Зай гезунт ун гликлэх, майн кинд (Будь здорова и счастлива, мое дитя)», – этими словами Рива встречала и провожала меня каждый раз.
Мне кажется, в душе она давно свыклась с разладом в нашей семье или, быть может, лишь утешала меня. Но как часто, подсовывая свои знаменитые тейглах, штрудели и форшмаки, она со скорбной усмешкой говорила мне: «Не обращай внимания на эту семейку, – как бы отделяя нас двоих от деда и тетки, – они все сделаны на один лад. А этот ко всему прочему, – она насмешливо кивала на деда, – тот еще фефер (перец).
Все нападки, язвительные подковырки и шуточки деда обычно пропускала мимо ушей. Но иногда вскипала. И тогда, дерзко блестя глазами, бросала свысока:
– Ты же у нас известный на всю округу хохэм (умник).
– Все слышали, что сказала эта женщина? – резким фальцетом вскрикивал дед. Но, бросив быстрый взгляд на Риву, тотчас сконфуженно умолкал.
Тут, в мастерской, он был совсем не похож на того суетливого, взъерошенного, то и дело вспыхивающего от обиды человека, каким я его видела у нас на Ришельевской. Здесь он был совсем другим. Широко расставив коротковатые ноги и вытянув трубочкой толстые губы, он долго, пристально вглядывался в материал, расстеленный перед ним на столе. Иногда что-то беззвучно нашептывал. Обходил несколько раз вокруг стола, лязгая в воздухе ножницами, точно примериваясь к предстоящей работе. И вдруг стремительно начинал резать. Казалось, безжалостно кромсает материал на куски. Через час сметанные на живую нитку брюки были уже в руках у напарника.
– Твой дед в своем деле артист, – изредка бросал Егор.
Дед Лазарь скупо усмехался, насмешливо поддакивал:
– Угу, артист погорелого театра.
Даже о своей дочери, тетке Мане, он говорил без обычной запальчивости.
– Ну как там поживает твоя мумэ (тетя)?
Конечно, глаза его насмешливо щурились, губы складывались в едкую усмешку, но не было той жгучей злобы, что вскипала в нем, у нас на Ришельевской.
– Что ты экономишь?! Что ты жалеешь копейку детям? – гневно вскрикивал он. Обычно это был зачин.— Я тебе даю. Вэлвэл тебе присылает. А ты все копишь, копишь, копишь. Я у тебя спрашиваю, девочка должны ходить в таких чулках?— дед хватал заштопанный теткой чулок и совал ей под нос. – А на себя посмотри! Сколько раз ты уже лицевала свое пальто?
– Что ты хочешь, папа? Успокойся, папа! – беспомощно сцепив руки, шептала тетка.
– Что я хочу? – вскипал дед с новой силой.
Иногда мне казалось, что безответность тетки еще больше распаляла его. Он словно срывал на ней всю ту обиду и боль, что беспрестанно мучила, жгла его душу.
– Я хочу, чтоб они имели все: платья, туфельки, игрушки, – он загибал палец за пальцем. И, потрясая в воздухе уцелевшим жилистым кулаком, злобно сипел, – они должны жить, как царицы! Ты, бесплодная смоковница, разве ты понимаешь, что такое ребенок?
Ты, как твоя покойная бабка. Та тоже знала только одно: деньги, деньги, деньги. На пурим она выдавала твоей маме шаль и шевровые туфли. А после праздника снова все прятала в сундук до следующего пурима. Каждое зернышко было у нее на счету. Чем все кончилось? Где все ее добро? Где твоя мама Рейзеле? Ты знаешь, что ждет завтра этих детей в нашей бандитской малине? Знаешь? Я тебя спрашиваю!» Он подступал к тетке. Та цепенела от ужаса. Веснушки ярко проступали на ее мучнисто-белом лице. Зажав рукой рот, она начианала беззвучно плакать. Я обычно забивалась у угол. Лишь моя бесстрашная сестра умела мгновенно пресекать его вспышки гнева.
– Что ты раскричался? – сурово насупившись, она дергала деда за руку, – ты пришел в гости. Сядь и сиди. И жди, когда тебе дадут чашку чая, – Ее блестящие светло-шоколадные глаза властно, поженски сверкали. – Так делают приличные люди.
Дед мгновенно обмякал. Становился перед ней на колени. Прижав правой рукой к груди ее кудрявую голову, тихо шептал:
«Рейзеле, копия Рейзеле, тебе на долгие годы, – и толстые губы его начинали дрожать.Ты опять все перепутал. – Сестра сурово хмурилась, – С чего ты вдруг взял, что я Рейзеле? Ну-ка, быстро — как меня зовут Тихая виноватая улыбка скользила по его лицу. Дед отводил взгляд в сторону. Начинал осторожно дуть на ее кудряшки. И она, откинувшись назад, заходилась в заливистом, звонком смехе.
Сестра с детства как-то сразу, твердо определила свою линию жизни. И, сталкиваясь с тем, что вызывало у меня приступы бессильного страха, отчаяния и злобы, лишь заносчиво встряхивала кудряшками. Где я то и дело спотыкалась, падала, она единым махом преодолевала все рытвины и ухабы бытия. Потирая ушибы, зализывая кровоточащие шрамы, я не столько шла по жизни, сколько настороженно оглядывалась по сторонам. Мне казалось, что мир вокруг меня наполнен ненавистью, опасностью и страхом. Она же, не обращая внимания на тычки и колдобины, шагала вперед не оглядываясь. Лишь изредка, в особо трудные минуты жизни, сводила к переносице изогнутые серпом черные брови. Но тотчас, словно спохватившись, гордо, независимо усмехалась.