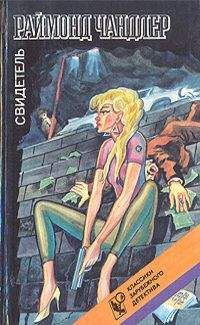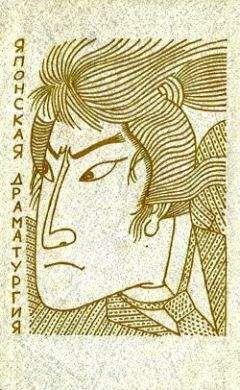Александр Старостин - Шепот звезд
— Слушаю вас, — сказал он.
Николай Иваныч растерялся.
— Не знаю, как бы сказать, но вы поймете… Я бы хотел видеть Одессу.
«Эти бородачи будто калиброванные. Как, впрочем, и их произведения», подумал он между прочим.
— Одесса? — Бородач повернулся к женщине, которая, оставив работу, с веселым любопытством поглядела на излишне шикарного гостя. — Ты не знаешь, где Одесса?
— Точно не скажу. Кажется, на берегу Черного моря.
— Она уехала отдыхать? — спросил Крестинин, чувствуя себя полным идиотом.
— Она всегда там отдыхает. Но я в географии не очень. Может, на Каспийском? Думаю, не очень далеко от Херсона. Иначе революционный матрос Железняк не оказался бы в тех местах. Тогда ведь с транспортом была напряженка. Вот только не скажу, где Херсон.
«Юмористы из мира теней», — подумал Крестинин и, стараясь скрыть досаду, улыбнулся.
— Нет, на ту Одессу плевать, — сказал он. — Тут недавно была женщина по кличке Одесса.
Художники переглянулись, радуясь, видимо, случаю позубоскалить для отдыха от скучноватой работы — шлепания оттисков Бурбулиса.
— Что за блажь: давать ребенку нелепые имена! — пожала плечами женщина.
— Это в тридцатые годы чудили, — сказал художник. — Были имена Трактор и даже Трансформатор. Еще Мюд — Международный юношеский день. Знал такого. Бедного мальчика звали Мюдик, но из-за непроизносимости — Мудик. Как тебе это нравится?
— Она роста небольшого, в очках, носик… — Крестинин потрогал свой нос и почувствовал, что в ноздрях защипало. Неужели она приснилась? Неужели счастье — сонное видение?
— Была ли здесь женщина в очках и с носиком? — спросил бородач.
— С носиком точно была, а вот насчет очков…
— Помню, надо было встретиться с заказчиком, — словоохотливо заговорил художник, относясь к женщине. — Спрашиваю по телефону: как выглядите? Отвечает: жду на остановке, морда у меня круглая и красная, а ботинки коричневые — сразу узнаете. Выхожу на остановку, гляжу: у всех морды круглые, красные и ботинки коричневые.
Художница засмеялась.
Все-таки в женщинах, занятых искусством, даже Бурбулиса хлеба ради насущного вырезающих, есть свое очарование: щеголеватость движений и свобода. Если это, конечно, не переходит в развязность.
Художник глянул на часы.
— Ничем не могу быть полезным, — сказал он и слегка поклонился.
— Нет ли здесь еще художников? Поблизости?
— Не знаю, — снова поклонился художник, показывая, что час смеха окончен.
«Шлепай-шлепай своего Бурбулиса, — съязвил мысленно Крестинин и тоже слегка поклонился. А на душе было так тоскливо! — Может, выше?» — подумал он.
Наверное, примерно то же мог бы испытывать «дядя» Миша, который сто лет назад поднимался по роскошной лестнице прекрасного особняка, где жила волшебная возлюбленная. И он сам молод, и жизнь от избытка здоровья сплошная радость. И вдруг ему сообщают, что кости красавицы давным-давно истлели. И «дядя» вдруг видит, что роскошный особняк — склеп, декорация для спектакля из жизни бродяг. Дядя хватается за голову и вспоминает, что ему сто лет. И вообще он умер несколько лет назад и по причине атеизма обратился в черный дым.
Вдруг и Одесса — обольстительница из мира усопших, но являющаяся в этот мир во всем блеске своей былой красоты и очарования? Вдруг она развалинам роскошных особняков сумела силой колдовских чар придать первоначальный вид? Но это — обман. И она сама — обман.
Зачем она является в мир и зачем обольщает нас, простых технарей? Какая у нее цель?
Николай Иваныч толкнул покоробленную дверь и очутился на крыше.
— Ничего не было, — сказал он вслух. — И нет ни малейших доказательств ее существования. Была бы хоть пуговка, хоть засохший цветок…
Кое-что он произносил вслух, кое-что мысленно.
Вот для чего раньше засушивали цветы в книжках — для доказательства былого счастья.
Он увидел сверху свою машину и невесело рассмеялся: чего морочу себе голову?
И испытал наплыв благодарности к Одессе, которая сумела так долго занимать его воображение и напомнила о существовании давно забытых образов готических романов.
— И все-таки здесь что-то нечисто, — сказал он себе. — А если она нечистая сила, то, пожалуй, сама обнаружится.
На другой день он медленно двигался через гулкий аэровокзал, сверкающий стеклом и алюминием, как мечта радетеля за народное счастье Чернышевского, и его мысли, подобно маятнику, раскачивались от Одессы Федоровны к отцу, от отца к очередному АПу.
Мама, я летчика люблю,
Мама, я за летчика пойду
Летчик высоко летает,
Много денег зашибает
Вот за что я летчика люблю.
Такой вздор пели по деревням. И ходили в восьмиклинках. Теперь песни еще хуже, не говоря о кепочках.
Он не замечал ни сквозняков, гуляющих в этих огромных и гулких помещениях, ни пассажиров, не слышал дикторши Оли, объявлявшей города, которые можно поглядеть на географической карте во всю огромную стену, расчерченную красными линиями воздушных сообщений.
При взгляде на Крестинина внимание гипотетического наблюдателя по природному свойству замечать все, что блестит, задержалось бы на кокарде и анодированной капусте, на пуговицах с гербами; когда бы первое ослепление «золотом» прошло, наблюдатель увидел бы затененное козырьком лицо, скорее бледноватое, человека неопределенного возраста с тем тревожным выражением в зрачках, по которому безошибочно узнают русского среди иностранцев. Человека с таким лицом вряд ли назовешь счастливым: и сквозь анодированное золото льются слезы.
Он не замечал ничего, даже товарищей, оформлявшихся в Копенгаген, которые притворялись иностранцами, для чего делали развязные движения людей свободного мира и нахально улыбались, но черта с два скроешь под этой развязностью извечную русскую тревогу: не было бы драки. Или: не явится ли холуй во фраке и белых перчатках, не скажет ли: «Здесь вам не положено. Прошу пройти отсюда»? Этот испуг исчезнет разве что в ситуации, когда нечего терять и нечего стыдиться; в основе русской храбрости всегда было что-то от отчаяния и самоубийства: а пропади оно все пропадом! — и на амбразуру. Или на зону, где свободен.
И вдруг от этих желающих выглядеть интуристами товарищей отделилась молодая дама в очках и подлетела к Крестинину. Но тут же растерянно остановилась — он глядел в землю и, казалось, переживал неслыханное горе.
— Аэрофлот? — произнесла неуверенно женщина.
Крестинин вздрогнул и поднял голову — перед ним стояла неуверенная в том, что будет узнана, и потому испуганно улыбающаяся Одесса Федоровна.
— Ода! Матушка, красавица! — прохрипел он, так как голос от волнения сел. — Я думал, что ты мне приснилась. Я ездил в мастерскую и… Я в отчаянии! Я готов был застрелиться.
— И я! И я! Как ты мог не взять моего телефона? А я дурища. Как не дала? Запиши сейчас же, немедленно!
Он написал телефон на чьей-то визитной карточке.
— Я перепишу, сейчас же перепишу! — сказал он. — Ты куда?
— В Одессу.
Он поднял голову и поглядел на любопытствующих «интуристов».
— Понятно. Через Копенгаген.
— Я теперь не хочу никуда ехать. Ты такой шикарный. Ты летчик? Летаешь?
— Иногда. С печки на лавку.
— Мама, я летчика люблю, мама, я за летчика пойду… — спела она ему на ухо.
— Ин-те-ре-сно! — проговорил он. — Очень даже интересно.
— Ой, меня зовут! — воскликнула Одесса Федоровна и так порывисто обняла его, что роскошная фуражка (известный среди летунов мастер!) упала козырьком об пол и покатилась.
— Ой, извини!
— Пусть катится к… Главное — ты есть.
— И ты.
— К свиньям собачьим меня. Меня нет. И мне не хочется даже быть. Важно, что есть ты.
Она зашла за турникет, обернулась и помахала рукой. Потом сняла очки и вытерла глаза. Неужели всплакнула? Ах, милая!
Он вышел на стоянку и сразу увидел солнце, завернутое в облака, а одно облако походило на кудрявого старика с длинным носом, глядящего на мельчающие точки голубей.
«Только что я был рабом производства и АПпов, и вот — солнце», подумал он и стал глядеть на розовое небо, в котором над стариком плавал золотой конь без ног. Как ему хорошо плавать в этом нежном свете. И это ничего, что у него нет ног. Ему и без ног хорошо. Вот он растворяется в неге и свете. И скоро его не будет — он превратится в свет.
Николай Иваныч сел на скамейку и стал ждать вылета борта на Копенгаген.
Вот самолет устремился к золотому коню и растворился в розовом, как грудка снегиря, закате.
— Ах да! Совсем забыл про АП! — Он поспешно встал и отряхнул брюки; начальство в его ранге не имеет права быть замеченным сидящим без дела; оно обязано куда-то идти с озабоченным видом, показывать недовольство имеющимися недостатками и пробуждать в представителях своей службы вспышку трудовой активности, направленной на повышение качества обслуживания техники. К счастью, его никто не видел.