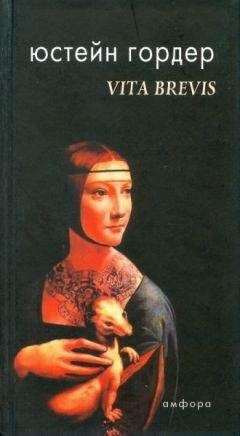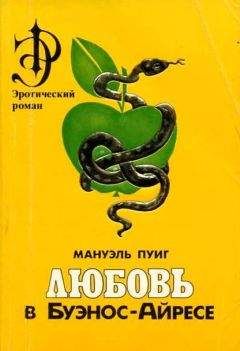Мухаммед Юсуф Аль-Куайид - Война на земле Египта
— Да я один из…
И умолк на полуслове. А я не задал ему вопроса, вертевшегося у меня на языке. Несмотря на прохладу тихого осеннего дня лицо его вдруг покрылось потом. Нет, я так и не спросил, почему он, сын омды, утверждает, что вышел из бедняков. Однажды ночью мы были в карауле. В четыре часа утра, когда я пришел снять его с поста, он показался мне необычно возбужденным. Вручил мне винтовку с полагающимися к ней десятью патронами и, направясь к своей палатке, сказал:
— Только этой ночью я понял, что испытал мой отец за долгие годы.
— Твой отец?
Он смешался, но все же ответил:
— Ведь он сторож.
Я едва сдержался. Сделал вид, будто не произошло ничего особенного, хотя понял: история этого солдата необыкновенно загадочна. Следующие дни были трудными, как предродовые муки. Мы много беседовали, но избегали говорить о главном. Он, по всему судя, устал носить в себе тяжкую как железо и холодную как сталь тайну. Но я не хотел вызывать его на откровенность, вынуждать делиться со мной. У всех людей есть свои тайны, думал я, и они вправе хранить их про себя. Я сейчас и не вспомню, когда именно под влиянием душевного смятения рухнули преграды в его сердце. У нас имелись инструкции, которым мы были обязаны строго следовать, но, считая их формальностью, никогда не выполняли. Речь идет о вручении всем новобранцам металлических жетонов и заполнении заявлений о том, кому должны быть вручены денежные накопления в случае гибели солдата. Вскоре был получен приказ проверить наличие металлических жетонов у всех служащих части, а также заполнить бланки финансовых распоряжений и переслать их в соответствующую инстанцию. Наверно, все решил момент, когда Мысри получил жетон. Он долго разглядывал его, вертел в руках, а потом спросил у офицера, каково его назначение. На жетоне, пояснил офицер, вырезано имя его владельца, номер воинского билета и группа крови. Его носят на груди, на металлической цепочке и он остается целым, что бы ни случилось с его владельцем. Металлический жетон — единственное, по чему опознают личность погибшего на поле брани, даже если его разорвет на куски. Жетон — свидетельство того, что носивший его был героем. Потом Мысри вручили бланк, на котором значилось, что нижеподписавшийся поручает командованию вооруженных сил, в случае его гибели, выплатить все причитающиеся ему денежные суммы такому-то: здесь надо было указать имя получателя, степень родства, адрес и номер ближайшего почтового отделения. Подпись распорядителя заверялась командиром воинской части и скреплялась печатью, документ этот хранился в личном деле военнослужащего и становился после его смерти единственным основанием для финансовых и других расчетов. Ко всеобщему удивлению, Мысри отказался заполнить бланк. Вернее, он оставил незаполненной графу, где следовало проставить имя получателя и степень родства. Но свое имя вписал и подпись поставил. Когда офицер поинтересовался причинами, он отказался дать объяснения. Офицер сказал:
— В таком случае напиши хотя бы степень родства: мать, отец, сестра, например.
Но и от этого он отказался. А через два дня решил, что напишет всего два слова: законным наследникам.
Так и написал. И хотя от него требовали назвать конкретное имя, заявил: этого достаточно, таково, мол, наилучшее решение. Все решили, что тут замешана какая-то семейная распря и позже, хорошенько подумав, он все-таки укажет точное имя. В тот день, когда происходила раздача бланков, чаша терпения его, как видно, переполнилась. В полдень он пришел ко мне и сказал, что хочет поговорить о важном деле. Мы условились встретиться после вечерней поверки и спуска флага и посидеть где-нибудь. Но вечером он куда-то скрылся, и я безуспешно пытался его разыскать. Мы встретились случайно на следующий вечер. Он спросил меня, отосланы ли уже из части финансовые распоряжения. Этого я не знал. Второй его вопрос показался мне странным: он спросил, имеет ли право изменить написанное. Увы, я и тут был не в курсе дела, поскольку мы привыкли смотреть на такого рода процедуры как на простую формальность. Нужно, высказал я предположение, аннулировать старый бланк и заполнить новый, потом заверить его по всей форме, а это не так уж просто. Разъясняя, как надлежит действовать в подобных случаях, я не сразу заметил, что он старательно роется в кармане, словно пытаясь извлечь нечто глубоко запрятанное. Сперва он достал воинское удостоверение, затем вынул из него сложенный вчетверо листок бумаги, тщательно разгладил его дрожащими руками и, тревожно блестя глазами, протянул мне. Ничего не понимая, я удивленно взглянул на него. Он указал глазами на листок, предлагая прочесть написанное и не задавать пока никаких вопросов. Это была копия документа. В верхнем углу значилось: министерство просвещения. Чуть пониже: Управление заочного обучения и адрес в Каире. Документ свидетельствовал о том, что владелец его получил аттестат об окончании школы второй ступени. Набранная им на экзаменах сумма баллов — более девяноста из ста. Общая оценка успеваемости — «очень хорошо». Я был всецело поглощен чтением. Мой собеседник легонько ударил меня по руке и молча указал пальцем, — такие пальцы бывают лишь у земледельца-феллаха, — на имя владельца аттестата. Я прочел:
— Мысри.
Палец переместился еще ниже, к фотографии. На ней я увидел лицо стоявшего передо мной человека. Правда, я не сразу это заметил, не понял, в чем дело. Я просто сперва уловил какое-то сходство в чертах лица. Потом решил, что у моего собеседника два имени: официальное и другое, указанное в аттестате, — обиходное, и он хочет подтвердить этот факт документально, чтобы иметь право проставить второе имя в финансовом распоряжении. Но весь этот ворох предположений, порожденных моими административными обязанностями в части, мгновенно улетучился после единственного произнесенного им слова:
— Я.
Он указывал пальцем на приклеенную к аттестату фотографию деревенского юнца с тонкой полоской усов и слегка растрепанными волосами, при галстуке, утратившем форму от частого употребления. Галстук этот владелец фотоателье выдает всем приходящим к нему сфотографироваться на официальный документ, среди школяров, которым фотокарточки нужны для экзаменационной анкеты, бытует даже поверье, будто старый этот галстук приносит счастье. Пиджак и рубашка — собственность ученика побогаче, какого-нибудь сына омды, и он одалживает их всем нуждающимся. Это своего рода декорация. Палец медленно двинулся вниз, с силой надавливая на бумагу, словно пытаясь стереть напечатанные на ней слова. Дойдя до имени, он остановился у начальной буквы «мим», с которой начинается Мысри. Мой собеседник поднял на меня глаза и медленно произнес:
— А это мое имя.
И опять я не понял. Истинный смысл происходящего с трудом доходил до моего сознания. Пытаясь как-то разрядить напряжение, я засмеялся и спросил:
— Так в чем же все-таки дело?
Он смотрел вдаль, и вечерние огни отражались в его зрачках.
— В чем дело? В чем дело?..
Он несколько раз повторил эту фразу и лишь потом начал рассказывать — сбивчиво и путано — обо всем, начиная с того дня, когда отец сообщил ему о предложении омды. Постепенно он воодушевлялся, черпая вдохновение в собственных словах. Черты лица его прояснялись по мере того, как события впервые выстраивались в его памяти в стройную цепь. Раньше ему редко приходилось разговаривать с кем-нибудь. Собственный голос опьянял его. Исповедь облегчала душу. Глаза широко раскрылись, словно он вдруг увидел жизнь в каком-то ином свете. Он сетовал, что не смог завершить образование и остановился на полдороге. Рассказывал, как перешептывались люди, когда он проходил по улицам деревни; вспоминал тот страшный день, когда отец открылся ему. Я слушал с ужасом, почти не веря его словам. Да, я ожидал всего, что угодно, но только не того, о чем поведал Мысри. Впервые тогда я назвал юношу его собственным именем. Это было нелегко, ведь образ его уже был связан в моем сознании с другим именем, под которым я знал его с первого дня знакомства. Выслушав печальную историю Мысри, я засыпал его вопросами. Сперва решил было отложить их на потом, но понял: в душе у него накопилось столько горечи, что надо ей дать излиться немедленно. И я задал вопрос, который молотом стучал у меня в висках:
— Но почему ты согласился?
— У меня не было другого выхода, — отвечал он спокойно и грустно.
Ответ его меня не убедил. Он хочет оправдаться, решил я, перед самим собой и передо мной ищет оправдания, в которое сам не верит, и в душе все еще сомневается. Но Мысри продолжал свой рассказ. Я не должен думать, сказал он, будто ему заплатили солидное вознаграждение. О деньгах он и не думал по очень простой причине — ни у него, ни у его семьи не было выбора.
— Мне было ясно, добровольно или против воли нам придется вернуть землю омде. Да, мы ходили по начальству, спрашивали, как нам жить без земли. Нам отвечали: сначала верните землю, потом можете обращаться в суд. Правосудие открыто для всех, ведь Египет вступил наконец в эру справедливости. Но я знаю, все это обман; вопрос о земле не столько юридический, сколько политический. Когда разговор об этом шел среди крестьян, мнения разделились. Одни решили отдать землю и обратиться в суд. Другие стояли на том, что не отдадут землю, даже если им придется обагрить ее своей кровью, они, мол, готовы воевать и с правительством. Третьи поддались уговорам омды. В том числе и мой отец. Тут-то и возникла история с призывом в армию, и омда сказал отцу: если твой сын пойдет в солдаты, земля останется за тобой. Отец согласился, да и все в доме радовались такому повороту событий. Я сперва отказался наотрез, не хотел даже говорить об этом. Но родные смотрели такими глазами, что я понял: от меня ждут жертвы. Впрочем им это вовсе не казалось жертвой, — просто решением проблемы. Тогда я решил: отъезд из деревни — для меня тоже выход. Кто знает, не найду ли я здесь свое будущее. Поверь, мне и раньше приходила в голову мысль пойти в армию добровольцем. А в газете — ее купил один из моих приятелей, — я прочел объявление о том, что вооруженным силам требуются добровольцы, им будут предоставлены значительные льготы. Я подумал, подумал и согласился. Дальше уже ничего не помню, не знаю даже, как добрался до Александрии. Оттуда меня направили в Хильмийят аз-Зейтун, и вот я здесь…