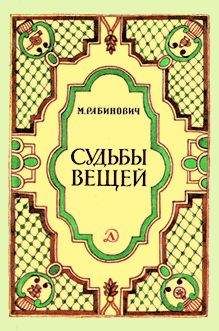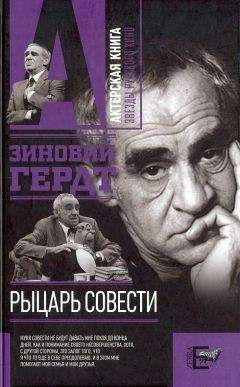Пьеретт Флетьо - История картины
Краски картины, уже утратившие свежесть, лишенные былой магической прелести, тоже болтались, свисая с рисованного переплета. Гармония цвета разрушилась, мазки отделились друг от друга и просто висели рядом, как на вешалке, обретя свою изначальную незначительность. Они не казались мне ни уродливыми, ни красивыми, ни тревожащими, ни вдохновляющими — я ничего больше в них не находила. Я пребывала в мире белесой бесцветности и, если порой в небе вырисовывалось прозрачное облако, сквозящее тающими оттенками, торопливо отводила взгляд. Мое тело источало серую пелену невозмутимого равнодушия, она распространялась вокруг и бесшумно, без толчков затягивала все, что могло бы пробудить волнение, она была густа, растекалась неприметно, без видимых усилий, ее истечение выглядело столь же естественным, как циркуляция лимфы в организме. Все это происходило в глубочайшем молчании, в такой чистой отрешенности, что приводивший эти реакции в действие механизм оставался незримым, словно был погребен под толстым слоем ваты. И это меня вполне устраивало. Подчас я себя спрашивала, уж не мертва ли я, или, может быть, это состояние комы, предшествующее смерти? Ответ не приходил. Мне ничего не хотелось, а сил, чтобы думать, было маловато.
* * *Однажды поутру, довольно рано, я принялась за уборку комнаты. Но скоро бросила, перешла в другую. Почти тотчас же вообще махнула на это занятие рукой и села. Рядом оказалась стопка газет. Я взяла несколько, стала перелистывать. Внезапно раздался весьма настойчивый звонок в дверь. Я подняла глаза, в комнате было темно — настала ночь. Так могли звонить только дети, к тому же теперь я услышала за порогом их возбужденные голоса. Я встала. Прошла по коридору, наткнувшись на дверь стенного шкафа, который забыла закрыть. И впрямь ни лучика света, темнота, хоть глаз выколи. Я сказала себе: ведь сейчас зима, самый разгар зимы. Дети стряхнули снег с запорошенных пальто и помчались в свою комнату. Потом окликнули меня. Стали спрашивать, почему я не пришла встретить их на автобусную остановку, чего бы им поесть, где я провела целый день, почему у них в комнате не убрано. Их голоса показались мне оглушительными. Говорить не хотелось. «Я ждала…» — произнесла было я, но тут же осеклась. Мне нечего было им ответить. А дети между тем уже перебрались на кухню и хлопали дверцей холодильника. Слышалось звяканье стаканов. Они смеялись и очень громко кричали. И опрокинули какую-то бутылку.
Мне стало немного скучно. Я ведь не имела заранее обдуманного намерения оставить дом неубранным. Речь не шла ни о мстительности, ни о демонстрации раздражения, я даже сожалела, что муж может увидеть все это под таким углом зрения. А я-то просто забыла. Он еще утверждал, что очень неосторожно позволять детям возвращаться домой одним. Его настойчивость в этом вопросе казалась мне нелепой. Он, похоже, не заметил, как дети выросли за последнее время. Они стали очень большими, достаточно большими, чтобы переходить улицу самим. Еще он пожелал знать, чем я занималась весь день, и меня огорчило, что я не нахожу ответа. Он целую историю из этого раздул, но я была слишком утомлена, чтобы протестовать.
* * *Физически я хорошо себя чувствовала: неплохо спала, нормально ела, гуляла, делала все, что положено, и даже испытывала нечто вроде мутного благодушия, которое придавало мне любезность и мягкость в обхождении с соседями по палате. И с доктором, что ко мне приходил, охотно сотрудничала. По видимости у меня все было хорошо. Я находила людей чрезвычайно милыми, только недоумевала, почему они так из-за меня хлопочут, уделяют мне столько внимания, между тем как я ни от кого ничего не хочу. Но вопросов я себе не задавала. Меня поместили в очень просторном доме, там мне жилось хорошо, вокруг росли деревья. И главное, больше не приходилось транспортировать вещи. Я знала, что здесь, в этом месте, меня сейчас считают больной, но это не имело особого значения — терминологический вопрос, и только. Как бы то ни было, ко мне он никакого отношения не имел.
Вскоре жизнь клиники заинтересовала меня. Мне был представлен на обозрение новый мир, полностью меблированный, населенный, организованный, и я с удовольствием наблюдала, как он функционирует. Здесь всегда было на что посмотреть — столы на колесиках, кресла-каталки, снующие туда-сюда медсестры, уборщицы, врачи, родственники, а сверх того манипуляции рабочих, пристраивающих рядом еще один корпус. Ночью через равные промежутки времени раздавался какой-то шум, было интересно сначала угадывать его происхождение, потом поджидать, когда он послышится снова. Зрелище разворачивалось своим чередом, все шло, как по маслу, номера сменяли друг друга, и пустого времени почти не оставалось. Мое присутствие здесь проблем не создавало. Мне определили место в общем распорядке, и мероприятия проходили удовлетворительно.
К тому же я принимала посетителей. Когда не чувствовала себя усталой, охотно виделась с людьми. Мне было очень легко рассуждать о «моем случае», объяснять его тем, кто об этом спрашивал, кто хотел знать. Слова находились без малейших усилий, мысль тоже работала без запинки. Это было как игра, правила которой я давно изучила, а стало быть, мне ничего не стоило поиграть в нее. Только в ней больше не оставалось соблазнов игры, привлекательности выигрыша и страха проиграть, поэтому я играла равнодушно. В отношении к своему случаю я проявляла словоохотливость эксперта и безразличие постороннего. Я бы с тем же успехом могла участвовать в любой другой игре, если бы умела. Что меня тяготило, так это замешательство других. Сама-то я была абсолютно в своей тарелке. С каждым, кто приходил меня навестить, я пускала в ход ту манеру общения, которая установилась между нами ранее и стала привычной. Так было проще всего. Я вспоминала, что когда-то вырабатывала эту манеру с трудом, да потом еще частенько приходилось ее модифицировать по ходу испытаний. Но теперь с этим было покончено, в моем распоряжении имелся набор технических приемов, которые оставалось только использовать, даже не задумываясь, автоматически. От меня не требовалось что бы то ни было менять в своей манере держаться, да, впрочем, я уже стала неспособна к новшествам. Мне досаждало только одно маленькое затруднение: я путала имена или вообще не могла вспомнить, кого как зовут. Но я просто приноровилась устраиваться так, чтобы никто этого не заметил.
Такая нормальность моего поведения, похоже, сбивала людей с толку. Вид у них становился смущенный, и я быстро сообразила, о чем они думали. Они начинали подозревать, что у меня нет никаких отклонений и вся моя болезнь не более чем притворство, чтобы порисоваться, или уж, если на то пошло, может быть, я вправду помешалась, то есть утратила психическое равновесие, а это в глазах людей благополучных всегда представляется в первую очередь следствием некоего нравственного порока, притом они убеждены, что какое бы то ни было лечение здесь бессильно, ибо подобный недуг заложен в генах, как горб или врожденная хромота. Это меня не задевало. Я лишь подмечала их непоследовательность. В самом деле, ведь когда у меня не было сил поддерживать беседу с теми, кто пришел с визитом, и я впадала в молчание, самым естественным образом позволяя себе умственно отключиться, я видела, что они вообще переставали что-либо понимать. Они сердились на меня за эту замкнутость и отрешенность, о которых судили, исходя из критериев здоровых людей, бодро шагающих своим путем. В их прошлый визит им показалось, что я чересчур нормальна. Зато теперь они находили меня неприятной. Я не плакала, не каталась по полу, не жаловалась, у меня не было припадков. Цвет моего лица был свеж, щеки достаточно округлы, а поскольку за мной хорошо ухаживали, я даже не имела запущенного вида. Они уж и не знали, к чему прицепиться со своими соболезнованиями. А потому покидали меня в раздражении, и я знала, что стоит им вернуться домой, как они не преминут отвести душу, немного помыв мне косточки.
Я все это видела. Моя проницательность чудесно обострилась. Я была как стекло, становящееся чем дальше, тем прозрачнее, и, когда приходилось рассказывать врачу о моих наблюдениях над визитерами, я находила для этого вполне адекватные слова. И все же, видимо, мои пояснения отличались от того, что говорили другие. Я употребляла безукоризненно правильные понятия, несомненно, более точные, чем в прежние времена, но они словно потускнели, утратили цвет и блеск. К тому же я сама удивлялась, что все еще умею различать их, не путать, при том, что все слова ныне казались мне похожими. Как белые камешки, что попадались на дороге, — я их, разумеется, собирала, но так же просто могла и выбросить, ежели находились другие.
А вот посещений детей и мужа я не любила. Чем проще я держалась, тем более встревоженными они выглядели. Зачастую при таких встречах мне приходилось говорить одной. Я слушала свою беспечную болтовню, гладкую и мягкую, перескакивающую с предмета на предмет, то незначительный, то ужасный, сохраняя неизменно ровный тон, а их речь была так неуверенна, спотыкалась, наталкиваясь на необъяснимые препятствия и обрываясь на полуслове. Я догадывалась, что внушаю им страх, и об этом тоже говорила с улыбкой. Тогда они словно бы рассыпались передо мной в пыль, как будто нечто невидимое, но сокрушительное, вроде прозрачного стеклянного лемеха, срезав, дробило их на мелкие части. Все это вскоре стало решительно раздражать. Я сохраняла полнейшую естественность, но это неизменно вызывало у окружающих болезненные реакции: так морские волны разбиваются, столкнувшись со скалой.