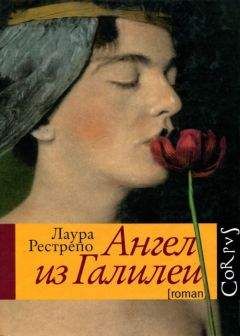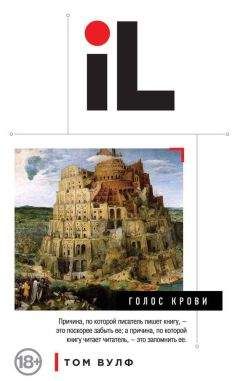Лаура Рестрепо - Леопард на солнце
– Слушай, насекомое, ты наклал в штаны, и мне охота посмотреть, как далеко ты зайдешь, чтобы получить, что тебе хочется.
– Мне ничего не хочется, по правде мне твои часы не так уж и нравятся, – лепечет дрожащий Мансо.
– Ври больше, – рычит Нандо, – ты свою мамашу продашь, чтобы заполучить такие. Я дам тебе шанс. Сейчас тебе принесут тарелку, вилку, нож и салфетку. Если ты съешь свое дерьмо, медленно, не морщась, с хорошими манерами, да смотри, без жульничества, подарю тебе часы.
Толпа образует кружок вокруг Элиаса Мансо, и люди едва не становятся свидетелями отвратительного зрелища, но тут им в уши ударяет несущийся с улицы страшный шум – каскадом рассыпаются ноты одной из «утренних песенок»,[33] с подъемом исполняемой пятнадцатью гитаристами, двадцатью скрипачами и двадцатью тремя трубачами: пятью ансамблями марьячи,[34] нанятыми для совместной игры. Оглушительная серенада подхлестывает толпу, словно электрический шок, и скопище, всколыхнувшись, поспешно теснится у входной двери, чтобы присутствовать на представлении. По улице вниз валят, играя на своих инструментах, многочисленные чарро,[35] в больших черных сомбреро, затянутые в костюмы серой шерсти с серебряной отделкой.
Следом за ними, медленно, торжественно, скользит бесшумный и великолепный ярко-фиолетовый «Линкольн Континенталь» Нарсисо Баррагана.
– На свадьбе Нандо этот Нарсисо умудрился стать героем шоу. Еще бы, появиться с такой уймой марьячи.
– Уж он всегда бывал героем шоу.
– Устроил себе триумфальный выезд, точно как у Гайтана Черного[36] на центральной площади столицы.
Позади «Линкольна», замыкая процессию, покачивается и скрипит какой-то странный и огромный предмет мебели – он едва пролезает в улицу, и никто не в состоянии понять с первого взгляда, что это такое. Эту штуковину, установленную на прицепе, тянет трактор, – это нечто плоское, круглое, четырехметровое в диаметре.
Речь идет о свадебном подарке Нарсисо его брату Нандо: это гигантская круглая кровать из черепаховых панцирей, с водяным матрасом, набором зеркал, встроенным баром, покрывалом из лисьих хвостов и обилием подушек всевозможных размеров, обтянутых тем же мехом.
Нарсисо, с зачесанными назад и приклеенными бриллиантином к черепу волосами, похож на Гарделя. Одет он безукоризненно – белый, облегающий, как у тореро, костюм, наногах – белые же итальянского производства мокасины, легкие и мягкие, как перчатки.
– Вся эта белизна наряда специально была придумана, чтобы лучше видно было, до чего же у него глаза неотразимые, глубокие, черные, как ночь в пустыне.
– Все у него было специально придумано, чтобы вернее очаровывать.
Его сопровождает женщина, словно сошедшая со страниц модного журнала: дорогая куколка, на несколько сантиметров выше его самого, со сверхддинньгми ногами, сверхгладкой прической, чувственным ртом и V-образным декольте до самой талии, выставляющим на обозрение большую часть ее плоской груди.
– Не знаю, что в ней находил Нарсисо, коли она была тоща, как палка.
– А ему такие именно были по вкусу, чтоб не в теле и современные. Он говорил, мол, это я только мясника прощу взвесить кусок мяса побольше. Ему нравились тонюсенькие цыпочки, а не какие-нибудь обыкновенные бабы.
Нарсисо велит музыкантам играть триумфальный марш из «Аиды» и торжественным, великолепным жестом приглашает Ану Сантана опереться на его руку и проследовать за ним: он хочет официально вручить ей подарок. Он ведет ее в зал, берет на руки со всей почтительностью, каковая и подобает в отношении жены брата, и кладет в центр кровати на меховое покрывало. Он просит у собравшихся тишины и при всеобщем ожидании нажимает на выключатели, установленные в изголовье неописуемого мебельного шедевра.
И тут происходит чудо. Из встроенного радио звучит переливчатая музыка, загораются обрамляющие черепаховый каркас черные и красные лампочки, пружины под матрасом приходят в действие, производя покачивание и массаж, матрас колеблется вверх и вниз, вправо и влево, совершает медленные повороты на сто восемьдесят градусов.
Народ ужасается, волнуется, раздаются крики.
– Кровать-то заколдована!
– На колесо обозрения похоже!
– Спасай невесту, ребята!
Ана Сантана, отчасти испуганная, отчасти заинтригованная, пытается сохранить равновесие, крутится среди подушек и лисьих хвостов, белое платье рвется, венок из флердоранжа падает с головы, на нее нападает приступ нервного смеха, она просит о помощи, кричит, чтобы остановили, раскаивается в этом, хочет посидеть на кровати еще немножко, хочет сойти, опять хочет остаться.
Музыканты опять хватаются за инструменты и начинают наяривать как заведенные, пары пускаются в пляс, пьяные ободряются и возвращаются к выпивке, обезьянка вновь предается привычному рукоблудию, толпа взвывает, каждому хочется посидеть на волшебной кровати, возникает свалка из-за права первенства, и наконец они выстраиваются в очередь, чтобы влезть на нее друг за другом.
Так продолжается, пока Нарсисо – не такой он человек, чтобы дать себя затмить какой-то кровати, – не кричит: «Хватит!», не выключает электродвигатель, не прекращает балаган и не возвращает себе роль звезды. Он надевает сомбреро-чарро, вдевает гвоздику в петлицу и начинает петь песни ранчеро, обходя родные пенаты во главе марьячи, которые ему аккомпанируют.
Его голос порхает поверх скрипок и труб и захватывает слушателей: мужчины с подвывом восклицают «ай-ай-ай» на мексиканский лад, а девушки истерически рыдают, словно фанатки какого-нибудь рок-кумира.
– Ай же ты мой братик родненький! – растроганно вопит Нандо, и его стальные ручищи стискивают Нарсисо, почти поднимая его в воздух так, что итальянские мокасины едва касаются пола. Он гладит брата по голове неуклюжими движениями ласковой гориллы и голосом, срывающимся от чувства и алкоголя, говорит ему на ухо:
– Будь осторожен! Не дай себя убить, как собаку.
По своему обыкновению Нарсисо не упускает возможности устроить спектакль. С изяществом цыгана и с проворством канатного плясуна он вскакивает на плечи Нандо, его фигура в белом залита светом, словно под лучами прожекторов. Все смолкают, как в церкви, а он, с высоты своего живого пьедестала, парализует толпу лихорадочными сполохами своих прекрасных глаз, затягивая молчание на долгие минуты.
Затем, мягким, меланхолическим голосом, в ответ на предупреждение Нандо он импровизирует проповедь, которой суждено войти в историю Зажигалки:
– Брат мой! Мы дерьмо и в дерьмо обратимся. И тебе, и мне это известно, потому что мы прокляты. Будем же пить, пока не свалимся, есть, пока не лопнем, тратить все до последнего сентаво, любить всех женщин, смотреть в глаза смерти и плевать ей в лицо!
– Чем закончилась свадьба?
По прошествии трех дней дом напоминает поле битвы после ее окончания: он тих и пуст, завален мусором, едва не разрушен нашествием толп и оккупирован армией уличных собак, ищущих отбросы.
Ана Сантана – одна посреди бескрайнего круга своего супружеского ложа, в накрахмаленном и незапятнанном свадебном наряде, она принимает пренебрежение и власть мужа с тем смирением, что паче гордости, а Нандо Барраган в это время лежит пьяный в углу материной кухни, среди кучи зловонных окурков, и горько рыдает, вспоминая о белокурой Милене, о женщине, что не пожелала его любить.
* * *Жители Порта просыпаются после сиесты и раздвигают жалюзи, позволяя потоку света заливать свои дома, чтобы рассеять влажную духоту, застоявшуюся к четырем часам пополудни. Мани Монсальве – он никогда на спит днем – сидит за письменным столом и смотрит в большие окна своего кабинета. За отражающими стеклами море приобретает неестественный серебристый оттенок – Мани он нравится больше натурального, а фиолетовое небо выглядит великолепно и нереально, словно на фотографии.
Мани ведет беседу за закрытыми дверями со своим помощником и правой рукой Тином Пуйуа. Мани снял обувь и мягко поглаживает ступнями ковровую дорожку, недавно замененную по его приказу, так как прежняя уже утратила аромат новизны.
До сих пор его поражают запахи и прикосновения дорогих материалов, которые он узнал уже взрослым. Ему доставляет удовольствие касаться пальцами хромированных металлических ножек своего письменного стола, мрамора крышки, искусственной кожи стула с изменяющимся углом наклона, граненого хрусталя стакана, который он держит в руке. Он глубоко вдыхает свежий и безличный аромат экологически чистого спрея. Он с удовлетворением отмечает, что ему не слышен шум моря: по его распоряжению стены обиты звукоизолирующей пробкой, потому что от шума у него болит голова. Кондиционер включен на полную мощность, и прохлада вздыбила все волоски на коже Мани. Ему это нравится: он столько лет страдал от жары, что теперь ощущает свое могущество, страдая от холода.