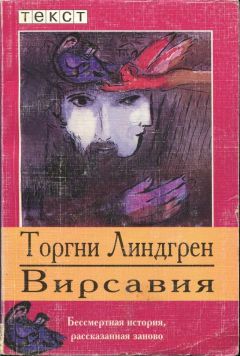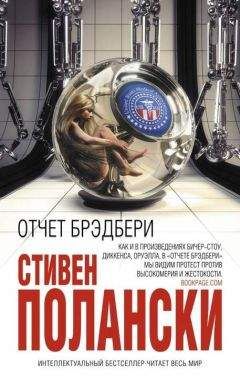Торгни Линдгрен - Похвала правде. Собственный отчет багетчика Теодора Марклунда
— Я не знал другого способа добиться порядка, кроме как помещать разные вещи под стекло в рамы. У меня никогда не было ни кассового аппарата, ни бухгалтерских книг, ни бухгалтера-консультанта, ни настоящего банковского счета. И конторы я никакой не имел, обходился двумя ящиками, куда как попало отправлял всякие бумажки. И в общественном, и в частном смысле я отличался расхлябанностью и беспечностью. Сам знать не знал, какие суммы утаил, теперь-то, слава Богу, все наконец выяснится. Может, не один я проштрафился, а изначально все наше семейство. Нет, угрызений совести я никогда не испытывал. Однако ж теперь чувствую облегчение и свободу. Я ведь полный профан, у меня даже не хватило ума заподозрить себя, так что самое время вывести меня на чистую воду.
Я был вполне доволен этими беседами. Они оказались короткими, нервничать не пришлось. И журналисты, похоже, остались довольны, а один из них сказал:
— Замечательно, детали большого значения не имеют, читателям требуется лишь общий обзор.
Во второй половине дня в последний раз шел снег. Я стоял у окна, смотрел на падающие хлопья и думал, что они выглядят точь-в-точь как на картинах за четыреста — шестьсот крон. Такой снег мог бы написать Стрём.
Пришли и последние клиенты. Правда, ни они, ни я не знали тогда, что после них ко мне больше никто не придет. Заказали они окантовать юбилей конфирмантов и портрет столетнего старика.
Вечером мы с Паулой обсуждали ее турне. Все лето она проведет в разъездах. Я сказал, что охотно поехал бы с ней, только вот за мастерской и магазином присмотреть некому. За всю жизнь я ни разу не бывал в отпуске. О «Мадонне» мы не сказали ни слова. Наутро пришла Паулина мамаша с газетами. Она прочла пресс-анонсы возле автобусной станции и заинтересовалась, о каком таком торговце картинами идет речь.
— Тебе-то что, — сказала она. — А вот нам, тем, кто тебя знает, такое и во сне не снилось. Оказывается, ты куда более крупная фигура, чем я думала.
— Какое там! Я всегда был ничтожеством.
— Нет, надо же! — воскликнула она. — Сколько лет жила по соседству с тобой и понятия ни о чем не имела. Уму непостижимо, как ты умудрялся быть таким скромным и деликатным.
— Зря я поставил «Мадонну» в витрине. И раму эту дурацкую вскрыл зря.
— Навеки не спрячешься, — сказала она. — Лопнешь в конце концов изнутри. Нужно показать всему миру, кто ты есть на самом деле.
— Я, что называется, двадцать два на двадцать семь. И никогда этого не скрывал. Пусть все видят.
Она уставилась на меня, широко раскрыв глаза, и на миг стала очень похожа на Паулу.
— Не поняла, — сказала она. — Опять загадками говоришь.
— Будь я картиной. Это минимальный стандартный формат. В сантиметрах.
— Здорово все ж таки, — сказала она. — Ты не хотел, чтобы мы, другие то есть, тебе завидовали. Восхищение и почести тебе не по нраву. Но на сей раз ты не отвертишься.
Когда она ушла, я немного полистал газеты. Она была права: на сей раз я не отвертелся. «Крупнейшая налоговая афера в губернии за несколько десятилетий. Торговец картинами: Я виновен». В трех газетах я выступил с чистосердечным признанием:
«Конечно, я обманщик, но без обмана не пробьешься и денег никогда не сколотишь».
Не припомню, чтобы я говорил такое.
«Голос у него ровный и спокойный, — писали газеты, — и говорит он без запинки, не подыскивая слова. Совершенно ясно: этот человек знает, чего хочет, ни противодействие, ни трудности его не остановят».
Даже одна из вечерних газет поместила заметку обо мне. Снова извлекли фотографии — мои и «Мадонны».
После обеда я допил водку, которая оставалась в доме. Ночью позвонила Паула, она тоже прочла вечернюю газету и хотела меня утешить.
— Меня так легко не сломишь, — сказал я. — Ничего, я справлюсь. В делах надо, черт возьми, привыкать к ударам.
Паула употребляла такие слова, как «трагедия», «жестокость» и «преодоление тягостных эмоций».
— Наоборот, я взбодрился, — возразил я. — Прямо-таки готов биться с целым миром.
Так оно и было.
Дядя Эрланд подарил ей попугая, австралийского, по кличке Кассандра, и Паула уже научила птицу двум своим песням. Голос у попугая был сиплый, басовитый и малость зловещий, Паула изобразила его по телефону. «I cry when you fumble around within me». Я единственный, кто слышал, как Паула поет попугайским голосом.
~~~
Пока сижу и записываю все это, я постоянно слышу вдали шум моря, а подняв глаза, вижу цветущую вишню. Окно окаймляет ее точно рама, и она похожа на картину Крутена, в которую вдохнули жизнь. В стакане возле моего локтя напиток под названием «Für immer selig», сиречь «Вечное блаженство». Я не могу не упомянуть об этом. Наверно, не терпится мне рассказать, как все кончилось. Точнее, кончилось пока что.
Я тогда окантовал и конфирмантов, и столетнего старика, и с тех пор работы у меня больше не было.
Мать Паулы позаимствовала у меня «Книгу рекордов Гиннесса».
— Даю на два дня, — предупредил я.
Однако два дня миновали, а книгу она не возвращала. Через четыре дня я сам пошел к ней и попросил отдать «Гиннесса». Сперва она притворилась, будто вообще забыла, что брала книгу. Но я стоял на своем, и в конце концов она все-таки отдала ее.
— Это самая лучшая и самая правдивая книга, какую я в жизни читала, — сказала она. — Там все без вранья.
Наконец-то и Дитер Гольдман из Карлстада, и Мария, утверждавшая, что мы вместе навек, получат ответ на свои вопросы. «Собственно говоря, — писал я им обоим, — я уже решил отправить тебе картину, ты же знаешь, экономически я независим и в ней не нуждаюсь, но тут вмешались власти. Судя по всему, «Мадонной» не владеет никто, ею вообще нельзя владеть в обычном смысле слова. А я-то уже и гофрированным картоном запасся, и прочным шпагатом для упаковки, ведь мы оба пришли бы в ужас, если б она пострадала при транспортировке. Когда о чем-то мечтаешь или чего-то ждешь, надо, как говорит Шопенгауэр, непременно подумать и о том, что все может кончиться неудачей, тогда не придется испытать разочарование. Надеюсь, ты приложил это правило к «Мадонне». Я тоже всегда представляю себе неудачу. Спасибо за письмо. Искренне твой…»
Мне казалось, можно послать им такие письма, ведь они приложили столько стараний и питали столько надежд.
Приходил полицейский с диктофоном. Целых три кассеты ушло на мой рассказ, в точности такой же, как вот этот. Сам он не сказал ничего. Хотя нет, обронил, что мне еще повезло. Если бы власти, до того как взялись за меня, читали газеты, я бы так легко не отделался, они бы попросту опустошили весь дом. Но дело это нелегкое, журналисты всегда могут раскопать обстоятельства, недоступные для государства и местных властей, им плевать на законы и предписания.
Я скучал по заказчикам. Придумывал множество реплик, только адресовать их было некому. А магазин и мастерская без клиентов до ужаса тоскливы, едва ли не трагичны. Народ, проходивший мимо, нередко замедлял шаг, заглядывал в окна, а я силился им улыбнуться, порой стоял, перегнувшись через картины в витрине, чтобы все вправду меня видели, льстиво усмехался, скалил зубы, так что щеки судорогой сводило, но все напрасно.
Каждый вечер Паула говорила:
— Почему ты не приедешь сюда? У меня же есть свободная комната, которая тебя ждет.
— А за фирмой кто присмотрит? Делать рамы и вставлять в них картины далеко не так просто, как все думают.
— Ты же сам говоришь, что фирмы больше нет. Что клиенты исчезли.
— Я говорил в переносном смысле. На самом деле фирма, понятно, существует. Она существовала на протяжении трех поколений и не может вдруг кануть в небытие.
— Очень даже может в реальности кануть в небытие, — сказала Паула, — и существовать в переносном смысле.
На самом деле, конечно, именно это уже и случилось.
Если б я мог понять мир Паулы! Жизнь, какой она жила, песни, какие она пела, эти ее жуткие наряды. И публику. Многое тогда, вероятно, сложилось бы иначе. Но я чуждался ее музыки и ее фотографий в прессе, а услышав ее имя по радио или по телевизору, сразу же выключал. Все это было фальшиво и вызывало у меня отвращение.
В одном журнале написали: «Новая карьера Паулы — это непрерывный оргазм».
Тот, кто действительно хочет понять искусство Паулы и ее музыку, может прочитать «Книгу о Пауле» Пера Мортенсона (издательство «Нурштедт»). Говорят, там написано обо всем.
Сохранись у меня кассовый ящик, он бы теперь опустел. На последние деньги я купил кефиру и горохового супа в банках, чтоб хватило этак на неделю.
В конце концов я взял под мышку последние работы — юбилей конфирмантов и столетнего старика — и пешком отправился к заказчикам, последним моим клиентам. Бензобак в машине был пуст.
От обоих я услышал одно и то же:
— Не нужны нам твои рамки. Кто его знает, чем все обернется. Но фотографии верни.