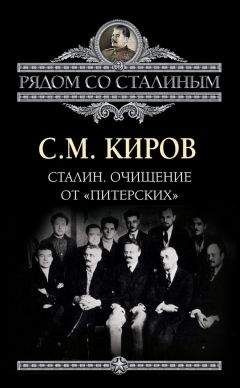Александр Киров - Последний из миннезингеров (сборник)
Раньше я чего-то ждал от женщин, с которыми проводил время. Хотя бы этого самого времени. Потом перестал ждать даже его и набрал пять килограммов. В новогоднюю ночь я тихо и незаметно просидел за праздничным столом, думая о ребенке, который скоро родится у одной женщины. Другая женщина, мама моей ученицы, недоумевала, как это жена постоянно оставляет меня с моего ведома одного и без присмотра: «Я бы руками вцепилась. Это мое. Мое!» Она развелась со своим мужем десять лет назад. «Мне скучно! – говорила третья девушка. – Поговори же со мной!» – «Мне тоже скучно!» – отвечал я ей. – «Это неправда! В твоем мире не может быть скучно», – утверждала она. Так думает она о мире моем. Еще все они думают, что дороги мне, а мне дорога лишь одна могилка на сельском кладбище да другая могилка, церковь старая да крест в руках батюшки. Только я сам еще этого не знаю.
Когда я хотел, чтобы мое сердце билось и питало тело кровью, оно выдавало причудливые перебои. Когда хотел, чтобы оно остановилось, сердце билось с тенью моего желания, как профессиональный боксер. Когда со стороны кажется, будто я нерешителен и взволнован, я спокоен и направлен к цели, как двухметровая смертоносная ракета; размахивание руками – остаточные явления сомнений. Когда я сосредоточен и направлен к цели, на самом деле, я сбит и труслив; размахивание руками – попытка выдать желаемое за действительное.
Ярко светит солнце. Я сижу за учительским столом и жмурюсь, пряча от солнца глаза. Вспоминаю мрак минувшей ночи, когда был один. Мечтаю о мраке ночи следующей. Мне не понятны истерические ожидания от ближайшей субботы вверенных мне детей. Справедливости ради надо сказать, что сам я в их годы, да и до последнего времени был не лучше, а только хуже, хуже. А когда навалилось одиночество, которое с божьей помощью, но неизбежно мне предстояло переживать, я изменился. Раньше я видел эти изменения в других людях, но как-то не придавал видимому значения… Я пытался научить литературе молчаливого стеснительного Борисова с первого курса. Борисов страдал. Когда я отказался от своих попыток, Борисову стало легче. На последний урок он не пришел.
Этим утром на душе было никак, то есть тоскливо и горько. Толян спросил у меня жестяной короб, и я отдал ему хапужник. Горя и тоски убыло. Светило солнце.
Любовь, смерть и пара бордовых шерстяных носков
Я прошу одну эту руку,
что меня обмоет и обрядит.
Я прошу одну эту руку,
белое крыло моей смерти[2].
Словно зачарованный, смотрел я в окно на огромный огненный шар, повисший в небе над полуночным городом. В местечке, где нет-нет да и объявлялись йети, барабашки, оборотни и колдуны, корабль пришельцев не был редкостью, из-за которой люди труда вскакивали бы среди ночи, и на НЛО я смотрел в полном одиночестве. Так казалось. Наутро, правда, выяснилось, что корабль видели все горожане, испытывая примерно те же самые ощущения, что и я.
Мое созерцание иных миров прервал телефонный звонок.
– Простите, пожалуйста, – тревожно произнесла медсестра местной больницы. – Случайно… Совсем случайно… У вас не объявлялась Люба Вешнякова?..
2Словно доверчивый ребенок, глядя на вокзальную и привокзальную толпу, думает, что среди этой тьмы народа есть настоящие, как в криминальных сериалах и детективах, преступники, так и старшина, с которым мы встретились усталыми глазами, может быть, думал: на площади Ярославского вокзала, есть, кроме прочих, еще и честные люди.
Их было двое. Я – и еще один поэт. Именно так он сказал мне в знак высочайшего уважения, но сразу же испугался, что поспешил со столь высокой оценкой попутчика.
Мы уезжали из Москвы.
– Что тебе еще осталось в жизни? Курить ты не куришь. Пить не пьешь. И с женщинами, судя по всему, у тебя все, – произнес этот самый поэт, когда поезд тронулся.
– Почему с женщинами-то все? – обиделся я.
– Так была одна, вторая, третья. Чего еще?
Поэт задумался о чем-то и часа через три продолжил:
– Что нужно для того, чтобы ты запил? В жизни ты все пережил. Отец у тебя умер, мать – тоже. Что может быть страшнее? Я, помню, все время этого боялся. Разве что – твоя жена умрет при родах, и ты запьешь.
Я смолчал. Поэт принял это за капитуляцию. И перед Няндомой, на десятом часу пути, решил не брать пленных.
– Вступая в этот союз, продаешься евреям. Пойми! Я в другом союзе, и то лишь потому, что имею с этого тысячу в месяц.
Пока я осознавал всю неумолимую весомость вынесенного приговора, мы добрались до Каргополя, где люди и звери вовсю отмечали день города.
3– Эти уж титьки не покажут, – с тоской подумал какой-то подросток о заезжих манекенщицах, гарцевавших на деревянной сцене. Он не заметил, как озвучил свою мысль, и перепугался, однако стоявшая рядом бабушка с морщинистым лицом и острыми, пронзительными глазами, согласно кивнула:
– Вместо мозгов – бе-лан, вместо души – о-ре-флэм.
Подросток заржал, но бабка уже не смотрела на него, потому что выглядела в толпе горожан меня.
4– Сашка, ты чего это, подругу свою не признал! – возопила старушка, бойко семеня ко мне.
Горожане вокруг нас недоуменно переглянулись. Поэт, вместе с которым мы ехали из Москвы, пожал плечами и зашагал прочь. Приблизившись ко мне, Люба качнула головой ему вслед.
– Нормальный парень, – неопределенно пробормотал я.
Люба не поверила:
– С одной-то стороны он парень нормальный, а с другой – хрен ему в задницу.
5Моя подруга Люба Вешнякова работала санитаркой городского морга.
Правильнее сказать, она была подругой моей мамы, с которой, переехав в город из деревни Чертовицы, всю жизнь отработала в районной больнице. А потом уже стала дружить со мной. В выражении своих мыслей и чувств Люба не стеснялась никогда. Может, поэтому мы и подружились – не помню. Помню лишь обстоятельства, при которых это произошло.
В 1998 году у меня умерла бабушка. В ожидании похорон я прохаживался у городского морга.
– Загляни, спроси, может, помочь чего надо, – попросила мама.
Я зашел в морг.
Прибранная, наряженная, бабушка уже лежала в гробу. Помогать хозяйке неприметного маленького деревянного строения, расположенного во дворе больницы, было не в чем.
Увидев меня, Люба развела руки и, кивнув чуть наискось, одновременно пожала плечами: ничего, мол, не поделаешь. Жизнь есть жизнь, а смерть есть смерть. И не самая плохая смерть. В подтверждение этих невысказанных слов Люба кивнула на синюшный труп молодой бабы, скукожившийся на соседних деревянных нарах:
– Допилась, блядь, – буркнула Люба.
6– Дочку-то из морга думаете забирать? – не сказала, а бросила Люба в телефонную трубку.
По ту сторону провода молчали. Потом раздалось какое-то тонюсенькое пиликание, звук падающего тела и короткие гудки.
Люба хмыкнула.
Я зашел в морг за капустной рассадой, которую Люба с торжеством библейского сеятеля раздавала весной всем знакомым, приговаривая: «Себе да нищим, себе да нищим…»
– Как обживаешься?
Я пожал плечами.
– Чего болячка на губе?
– Так, простыл.
– Ы-ы, – Люба осуждающе покачала головой. – Ноги в тепле держать надо. Я ужо тебе носки свяжу. Этого только спровадить надо.
И она кивнула на маленький трупик.
Я укоризненно покачал головой. Люба спохватилась:
– Ребеночка подобает земле придать…
И вновь потянулась к телефону, комментируя свои действия:
– Два, шошнадцать…
Меня кольнуло смутное подозрение.
– Чья девочка? – перебил я Любу.
Вешнякова словно наугад пробубнила знакомую мне фамилию.
– Я говорю, дочку из морга будете забирать? – заорала она через секунду.
Я подскочил к Любе, вырвал из рук телефонную трубку, бухнул ее на рычаг.
– А потому что думать надо! – заорал я громче Любиного.
– Об чем? – застенчиво улыбнулась моя семидесятилетняя подруга.
– Вообще! – взвыл я. – Он ведь дважды женат. Понимаешь?
– Ну, – кивнула Люба.
– И это, – я кивнул на тело, – ребенок от второго брака.
– Ага!
– Так какого… ты звонишь его первой жене, у которой от него тоже дочь, только уже на выданье?
– Не знаю, – пожала Люба плечами и смущенно хихикнула.
– А блядовать не надо было, – решила она через минуту и вновь потянулась к телефону.
– Ошибочка вышла, – поглядывая на меня, запела старушка в мертвую тишину. – Дочка не твоя, а ейная. Дак чего – вы который-то-нибудь из морга ее думаете забирать?
7Слово «обживаешься» было сказано Любой не случайно. За год до этой встречи я потерял маму.
Однажды она вышла из дверей своей опустевшей трехкомнатной квартиры ровно в полночь. Поднялась со второго этажа на третий и далее – на чердак. Вышла на крышу. И пошла по млечному пути в вечность.
Я горевал.
– А скажет кто-нибудь слово на похоронах? – робко поинтересовался я у Любы, когда она пришла наутро мыть покойную.