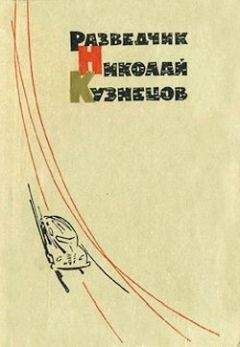Эдуард Кузнецов - Мордовский марафон
Специалисты утверждают, что не полысевший к 40 годам и в гроб сойдет волосатым. Альберт, к слову сказать, не из тех, кто вечно обеспокоен тем, как он выглядит, тем более его никогда не волновало соображение, будет ли он из гроба сиять лысиной своим неутешным родственникам и друзьям или сохранит юношески буйную растительность, да и саму возможность респектабельно покоиться в гробу он полагал для себя довольно проблематичной. Несмотря на то, что у него были замечательные волосы, он редко пользовался расческой, так как большую часть своей жизни был острижен наголо.
Автор на глазок прикинул, что из прожитых Альбертом 35 лет 23 года он проходил, что называется, оболваненным. Первый раз его остригли под машинку в четырехлетнем возрасте — из гигиенических соображений: педикулез в те годы был явлением нередким, а мыло — товаром дефицитным; позже его стригли наголо из соображений экономии: стрижка под машинку дешевле — пусть и на мизер — самой какой-нибудь простенькой челочки.
К великому сожалению, у Альберта не сохранилось ни одной фотографии (он их все уничтожил), за исключением той, детской, о которой уже упоминалось. Позже автору удалось внимательней рассмотреть этот снимок, и тогда же автор узнал, что сделан он в начале лета 1945 года неким «дядей Васей-старшиной», который привез с фронта не только два ряда медалей и костыли вместо правой ноги, но и объемистый сидор с часами, кольцами, зажигалками, бритвами и громоздким фотоаппаратом фирмы «Кодак». Все трофеи он, конечно, быстро пропил, а фотоаппарат шмякнул в пьяном кураже о стену дома и, свирепо матерясь, долго топтал его ногами под фальшиво соболезнующие охи и ахи соседок и голосистые проклятия жены.
Однако в первый день по возвращении из фронтового госпиталя дядя Вася, молодцеватый, несмотря на костыли, веселый, в рыжих усах, снимал, озорно балагуря, всех жителей двора, старых и малых, скопом и по одиночке. Фотокарточки он отпечатал уже значительно позже и сам разносил их по квартирам, выклянчивая в обмен рублевку, а за отсутствием таковой — всякую всячину: от порожних бутылок до коробки спичек. Это было уже в то время, когда дядю Васю-старшину начали замечать у Преображенского кладбища. Там их видимо-невидимо собиралось, от рынка к кладбищенским воротам, один возле другого — шеренга исковерканных статуй: кто без рук, кто с костылями, а тот и вовсе увешанный медалями обрубок… и перед каждым рваный треух или измызганная «сталинка» с горстью медяков.
Альберту в том году исполнилось семь лет. На снимке он стоит с тряпичным мячом в руках, лицо в разводах грязи, рот до ушей в счастливей ухмылке. Автор с чувством щемящей грусти отметил, что из всей футбольной оравы лишь один Альберт острижен наголо. («Жили мы беднее бедного: отец погиб в 1942 году, а мать всю жизнь уборщицей», — пояснил Альберт, очевидно, поняв нацеленность вопросов автора о том, когда и сколько раз его стригли под машинку.)
В том же 1945 году Альберт пошел в школу. Времена были серьезные, и у тех, кто за лето обрастал легкомысленными вихрами, учителя насильно выстригали полосу поперек головы. И только в седьмом классе школьникам позволялось носить волосы — не более пяти сантиметров. Таким образом, с четырнадцати до девятнадцати лет — самый «волосатый» период в жизни Альберта. Потом его забрили в солдаты, а там — после небольшого перерыва — пошли лагеря.
По словам Альберта, всякая стриженность у него ассоциируется с тюрьмой, казармой или школой.
Впрочем, следует заметить, что безволосость не уродовала Альберта, в отличие от подавляющего большинства людей, как уже оболваненных, так еще и прячущих под волосами корявые, седловидные, сплющенные черепа. Автор, сам большую часть своей жизни проходивший стриженым, припоминает, как, освободившись в 1968 году после первого срока, он не раз ловил себя на том, что чуть ли не всякого встречного-поперечного невольно рисует в воображении оболваненным и обряженным в полосатую робу… и многие тут же утрачивали в его глазах свою важность и самоуверенность: в лагере они бы сникли, съежились, как проколотый воздушный шарик; в лагере многие из них стали бы тем, что автор не очень интеллигентно именует «дерьмом». Об Альберте же можно даже утверждать, что как одежда скрадывала совершенство его пропорций, так и волосы частично прятали его отлично вылепленный череп.
Лицо у него грубой резки (из тех, которые, пока его обладатель молод, редко нравятся его юным сверстницам, но часто — умным климактеричкам), несомненно волевое, порой жесткое, замкнутое, нередко ядовито-ироничное, глаза серые, до оторопи внимательные, нос прямой, не очень толстый, губы хорошо очерчены, верхняя чуть уже нижней, подбородок крутой… Впрочем, все это очень приблизительно.
Автор долго сидел, грыз кончик карандаша, мучась поиском слов, способных обрисовать лицо Альберта так, чтобы поточнее передать натуру. Но увы!.. Альберт не без оттенка горделивости сообщил автору, что одно время он подрабатывал в Суриковском институте натурщиком и никому не давалось его лицо, так что в конце концов преподаватели художественного института стали рекомендовать его студентам лишь как натуру для торсовых рисунков, поясняя, что «это лицо им пока еще не под силу». Но оказалось, что «это лицо не под силу» и профессионалам (очевидно, все же средней руки): уже в заключении Альберта пытались изобразить два дипломированных художника (кого только не встретишь в лагере!), и каждый из них потом оправдывал очевидность своей неудачи тем, что, несмотря на резкость черт, есть в этом лице некая особая живинка, все как-то странно одушевляющая, и вот именно ее-то никак не ухватить.
* * *На осторожный вопрос о том, была ли у Альберта девушка, прозвучал довольно резкий ответ: «Была да сплыла». Автор более не осмеливался затрагивать эту деликатную тему. Однако позднее он все же узнал, что Альберт сам отказался поддерживать какие-либо отношения не только с этой девушкой, но даже и с матерью.
— Пока не расплачусь с этой сволочью… — сказал он.
— Так мать-то тут при чем? Ей-то каково? Ей ведь вся эта грязь непонятна!
— Знаю, — отрубил Альберт, отвернувшись к окну (автору почудилась мучительная слеза в этом резком «знаю»). — Я, — помолчав, добавил он, все так же смотря в сторону, — написал ей и все объяснил… Она два раза приезжала на свидание, но я не пошел… И письма тоже не беру.
В 1970 году мать Альберта вышла на пенсию и получает от государства 50 рублей. Он ежемесячно отсылал ей почти все заработанные деньги (когда 10, когда 20, а то и 30 рублей), оставляя себе лишь десятку — на ларек и на книги.
По мнению автора, лучше бы он вместо этих денег посылал ей письма.
* * *О политических взглядах Альберта автору практически ничего не известно. Лишь однажды, когда в камере вспыхнул на редкость горячий спор по поводу восклицания Дубельта после ареста петрашевцев, Альберт неожиданно вклинился в наш крик и сказал нечто заслуживающее воспроизведения на этих страницах в качестве единственного свидетельства его политической неблагонадежности.
Автор затрудняется восстановить горячечную путаницу камерного спора: один кричал одно, другой — другое, третий — третье, и в конце концов оказалось, что каждый имел в виду нечто четвертое… Вот какой это был спор.
Неожиданно Альберт, молча, но явно заинтересованно слушавший наши препирательства, приподнялся на нарах и спросил:
— Как он, этот Дубельт, сказал? Я не все уловил…
Автор повторил слова Дубельта: «Вот и у нас заговор! Слава Богу, что вовремя открыли. Надивиться нельзя, что есть такие безмозглые люди, которым нравятся заграничные беспорядки! Всего бы лучше и проще выслать их за границу. А то крепость и Сибирь никого не исправляют…»
Альберт желчно усмехнулся и опять было разлегся на нарах, но потом сел, свесив ноги вниз:
— Российскому бы «порядку», — серьезно и негромко заговорил он, — толику западного «беспорядка» — цены б ему не было. А так что же? В жизнь бы не поверил, чтобы за пару вшивых листовок могли влепить семёру. А вот влепили же мне: я думал, года два дадут, ну три… Ан нет! Да и вы вон все: за что сидите? С ума сойти! И вдруг, бывает, вычитаешь, как в той же Америке расхваливают советские порядки — с души воротит!.. Поехать бы туда и предложить… — он замолчал, задумался и насмешливо хмыкнул.
— Ну? — подтолкнул его один из нас. — И что бы ты там?
— Да, так, фантазия одна… Вот мелькнуло: ввести бы там 70 статью, аналогичную здешней.
— Ты что? — дружно обрушились мы на него. — На кой ляд тебе тогда эти США, если там будет семидесятая статья.
— Да нет, вы меня не поняли, — он насмешливо сморщился. — Там же тех, кто расхваливает СССР, видимо-невидимо. Ну, пока они лают свои порядки — это их дело, но когда они выставляют СССР в качестве демократического образца, — вот тогда бы к ним и применять семидесятую — точно так, как ее применяют здесь. Так сказать, для наглядной демонстрации советской демократии. А еще бы лучше: сажают тут за антисоветскую агитацию какого-нибудь Иванова или Рабиновича — и там тоже сразу: цап двоих за просоветскую агитацию; этим по семь лет — и тем тоже, да еще указать, что Иванов и Рабинович всего-навсего осмелились заикнуться вот о чем, а эти десятки лет гремели и с трибун, и в газетах… Да создать точно такие, как здесь, лагеря и держать в точно таких же условиях… В таких же! Только доступных для всех любопытствующих: приезжайте, желающие, гляньте на образцовую демократию! И заявление: сколько вы арестуете — столько и мы, вы судебную комедию — и мы тоже. А? — он коротко хохотнул.