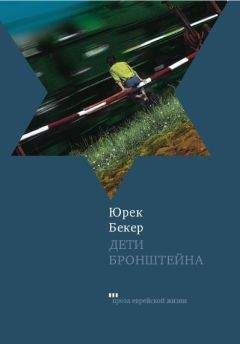Юрек Бекер - Яков-лжец
Осуждайте их, вы можете осуждать их сколько угодно, но там были только такие руки. Не за бунт в нас стреляли, спокойствие и порядок соблюдались строго, ни намека на сопротивление. Мне кажется, можно считать, что сопротивления не было, я, правда, знаю не все, но предположения мои, как говорится, граничат с уверенностью. Если бы что-нибудь было, я бы заметил.
Я бы участвовал, могу поклясться, пусть бы только меня спросили, из-за убитой Ханы я бы участвовал. К сожалению, я не из тех, кто поднимает на борьбу, я не могу увлечь других, но я бы участвовал. И не только я. Почему не нашелся человек, который мог бы крикнуть: «За мной!» — тогда последние несколько сот километров не были бы такими долгими и такими трудными. Самое страшное, что с нами тогда могло случиться, — исполненная смысла смерть. Я читал потом о Варшаве и Бухенвальде с величайшим уважением — другой мир, хоть его и можно сравнивать с нашим. Я много читал о героизме, пожалуй, слишком много, и каждый раз меня охватывала бессмысленная зависть, но вам не обязательно мне верить. Во всяком случае, мы до последней секунды вели себя покорно, и в этом я уже ничего не могу изменить.
Мне известно, конечно, что порабощенный народ может быть по-настоящему свободен, только если сам помогает своему освобождению, если он идет навстречу Мессии хотя бы кусочек пути. Мы этого не сделали, мы не сдвинулись с места, я выучил наизусть все приказы по гетто, неукоснительно их выполнял и только время от времени спрашивал бедного Якова, что передавали в последних известиях. Наверно, я никогда не расквитаюсь с этим, так мне и надо, и все мои терзания и все, что я вбил себе в голову с деревьями, — все от этого, и моя несчастная чувствительность и слезливость. В нашем гетто сопротивления не было.
* * *Говорят, что хорошо для твоих врагов, плохо для тебя. Я не собираюсь против этого спорить, это имело бы смысл только на конкретных примерах, скажем, на таком, который есть сейчас у меня, но я не хочу против этого спорить. Мой пример — электричество. Яков с удовольствием отказался бы от него, он прекрасно может без него обойтись, что значит — обойтись, никто даже не представляет себе, как хорошо может быть без электричества.
После русских и здоровья Лины самое большое желание Якова — чтобы испорченное электричество подольше не чинили. Но Яков единственный, а нас много, мы хотим, чтобы было электричество, мы беспомощны перед властью наших надежд и планов, и если не освободители сию же минуту, то хотя бы электричество.
Немцы, возвращаясь к моему примеру, тоже хотят, чтобы горело электричество. Не только потому, что в участке при свечах портишь себе глаза. Летят к черту во всех тонкостях разработанные планы, ни один стул и ни один буфет не вывозят с мебельной фабрики, не делают клещей, молотков и винтов на инструментальном заводе, не шьют ботинки и не кроят брюки, евреи сидят без дела и точат лясы.
Две группы спешно разысканных электриков — дополнительный паек и сигареты — рассыпались по гетто и ищут повреждение день и ночь, сопровождаемые нашими пожеланиями успеха, они проверяют предохранители, раскапывают мостовые и вытаскивают кабели. После пяти безрезультатных дней Хартлофф распорядился расстрелять их за саботаж, что совершеннейшая нелепость, потому что электрики тоже были клиентами Якова и лично заинтересованы в устранении поломки. Они были расстреляны на площади перед участком, кто хочет, может смотреть, пусть это будет вам предостережением, и выполняйте, что от вас требуют.
Потом прибывает немецкое подразделение, на машинах — точно люди с Марса. Снаряжение как у водолазов, они смеются и упиваются своей значительностью, можете не беспокоиться, мы обделаем это дело, покажите только, где эти еврейские халтурщики обломали себе зубы. Два дня — и поврежденное место вот оно, пожалуйста, у всех на виду, крысы прогрызли провода и подохли от своей жадности; в землю уложен новый кабель, и снова евреи при деле, снова буфеты, ботинки, клещи, винты, радио у Якова.
Мы хотим знать, правда ли, что у них был план отдать нас за выкуп. Если так, то почему до сих пор не нашлось денег? Мы хотим знать, соответствует ли фактам слух, что будет создано еврейское государство. Если да, то когда? Если нет, то кому это мешает? И прежде всего мы хотим знать, где сейчас стоят русские. За это время должна была накопиться масса новостей, ладно, они не будут передавать краткую сводку специально для нас, они понятия не имеют, как мы пострадали из-за отсутствия электричества, но кое-что узнаешь из сегодняшних известий, пожалуйста, не пропусти ничего, слышишь, ничего.
Бедный Яков. Ему нужно бы иметь хорошо оборудованное агентство, центральное бюро с тремя секретаршами, лучше с пятью, по нескольку связных во всех главных столицах, которые точно и надежно посылают всю информацию, каждую мелочь, добытую слежкой и хитростью, в центр, где заваленные работой секретарши сортируют эти мелочи, прочитывают все крупные газеты, прослушивают все радиостанции, выуживают самое значительное и представляют Якову — ответственному в последней инстанции, — только тогда бы он смог правдиво ответить хотя бы на треть вопросов — в той мере, в какой правдивы газеты и радиостанции и связные на местах.
* * *Из кармана у Свистка торчит газета. Свисток вышел из каменного дома, проходит, волоча за собой деревянную ногу, мимо евреев, которые и внимания на него не обращают, зачем нам газеты, у нас есть Яков. Только Яков не спускает с него глаз, только его волнует этот клочок бумаги с правдивыми или лживыми сообщениями о том, что действительно произошло, в любом случае бесконечно более ценными, чем ничто, называемое радио. Пища для иссякающего воображения, облегчение для измученного ума, если удастся дерзкий обмен владельцами.
За последним железнодорожным путем Свисток достигает цели — предназначенного только для немцев деревянного домика, как написано на двери под сердечком, — его вырезали позже, потому что так, наверно, принято у них дома.
Яков тащит ящик в паре с Ковальским, но не дает отвлечь себя разговорами, не упускает из поля зрения деревянный домик с вырезанным в двери сердечком. Если железнодорожник сунул в карман всю газету целиком, а похоже, что это так, и если он не слишком большой расточитель, то должно остаться порядочно. Если железнодорожник не скупердяй, он оставит там неиспользованную бумагу, и, если представится возможность, Яков достанет то, что останется от газеты. Но какая бы возможность ни представилась, это все равно будет смертельно опасно: что еврей потерял в немецком клозете? Ради вас, братья, я рискую жизнью. Не картошку я хочу своровать, как Миша, у него более практическое направление ума, чем у меня, он думает о благах земных, я, если все сойдет хорошо, уведу для вас несколько граммов новостей и сделаю из них тонну надежды. Если бы мама подарила мне при рождении более умную голову и фантазию, как у Шолом-Алейхема, — о чем я говорю, и половины хватило бы, — не нужно было бы мне красть пищу для воображения, я мог бы высосать из пальца в десять раз больше и кое-что получше, чем то, что они способны написать в своих газетах. Но я не могу этого, я выдохся — до того, что самому стало страшно, я сделаю это для вас и для себя, потому что совершенно ясно, что один я, я один не смогу пережить это время, я смогу пережить его только вместе с вами. Так выглядит лжец, если смотреть на него сзади, я пойду в их клозет и возьму, что там еще осталось, только пусть хоть что-нибудь останется.
Свисток наконец снова показывается на свет Божий, он облегченно вздыхает, закуривает, на что расходует на таком ветру целых четыре спички, теперь ему некуда торопиться, но карман его — карман его пуст. Как тогда обстояло дело с газетами? В наших было большей частью восемь страниц, четыре двойных листа, в его газете тоже было четыре, значит, это полная газета. Один лист рвут пополам, потом еще раз, и еще раз, на каждую страницу — минуточку, на каждый лист — выходит восемь листочков. Четырежды восемь — тридцать два. Здоровый человек столько не истратит, он разорвет только одну страницу, а остальные отложит для чтения. Но даже если он разорвал все, то что-то обязательно осталось, будем надеяться, что в своем неведении он не выбросил потом остаток.
— Что ты все время бормочешь? — спрашивает Ковальский.
— Я бормочу?
— Все время. Четыре и шестнадцать, получается столько и столько, что ты высчитываешь?
Наконец Свисток снова исчезает в каменном доме, Яков бросает взгляд на охранников, один скучает возле ворот, другой сидит на подножке вагона, успокоительно далеко, третьего нигде не видно.
— Продолжай работать и не поворачивайся в мою сторону, — говорит Яков.
— С чего вдруг? — спрашивает Ковальский.
— Я иду в их уборную.
На лице у Ковальского удивление, потом этот сумасшедший придумает пойти в каменный дом за водкой и табаком, он попросит охранника одолжить ему сигарету, и они за это поставят его к стенке, точно так же, как и за то, что он собирается сделать сейчас.