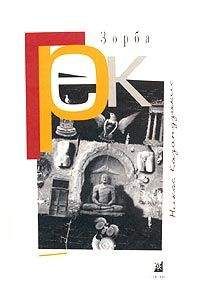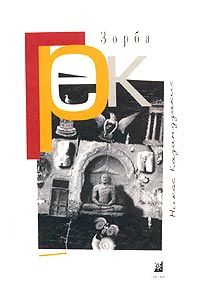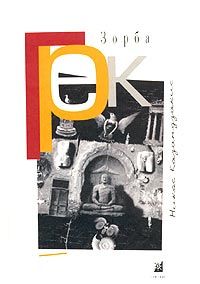Джон Кутзее - Сумеречная земля
Приветственные возгласы готтентотов и появление ужасных мальчишек, болтающих и хлопающих в ладоши, возвестили о конце путешествия. Далее — разговоры, беспрерывные разговоры, а я все маялся вверх тормашками. Потом сквозь толпу глазеющих женщин меня переправили к хижинам за ручьем, где кончалась деревня. Мои собственные люди необъяснимым образом исчезли, меня отвязали от носилок и уложили в тени чужие руки. Зрители удалились, остались лишь два непобедимых старика и дети. «Воды!» — крикнул я, и, как ни странно, появилась старая карга с сосудом из тыквы-горлянки. Это была вода, но с каким-то горьким привкусом и запахом лука.
Я жадно пил, презирая себя. Улыбнулся старухе. Она ушла.
Пришел Клавер, не такой озабоченный, как мне бы хотелось, и избавил меня от зевак, переместив в хижину для женщин с менструацией, которая, как оказалось, была отведена для меня. Там, в уединении и полумраке, я, цепляясь за своего старшего слугу, трижды облегчился в половинку тыквы — выносить ее и опорожнять в кустах было привилегией Клавера. И в последующие дни он выполнял эту обязанность, изо дня в день. Утром и вечером он приносил мне миску бульона, который составлял основу лечения путем очищения, — на мне практиковалась та самая карга, что принесла попить. Это была старая угрюмая рабыня-бушменка, она знала фармакопею бушменов. Иногда я видел, как она наблюдает за мной с порога хижины, — на все мои вопросы о названии и прогнозах моей болезни, о причине ее благодеяния и (вот уж проявление слабости!) о моей судьбе она отвечала упорным молчанием.
Приступы лихорадки приходили и уходили, и различить мое состояние можно было только по движению крыльев души при лихорадке и по тяжеловесной скуке при возвращении на землю. Я снова пребывал в прошлом, размышляя над своей жизнью в роли покорителя дикой местности. Я размышлял об акрах новых земель, которые пожирал глазами. Я размышлял о смертях, которые повлек за собой, — о высунутом языке антилопы и хрусте жука под ногой. С легким взмахом крыльев я становился лошадьми, которые жили подо мной (что они думали обо всем этом?), многострадальной кожей моих сапог, воздухом, давившим на меня, где бы я ни передвигался. Так я уходил все дальше, посылая себя из сморщенного пространства своей постели вновь обретать свой старый мир, и обретал его до тех пор, пока, столкнувшись лицом к лицу с чужеземной реальностью солнца и камня, не был вынужден отступить, оставив ее до того дня, когда я не дрогну. Каменная пустыня мерцала в тумане. За этой знакомой внешней стороной, красной или серой, говорил камень из глубины своего каменного сердца моему сердцу за внешней стороной, простирающейся во всех измерениях, населенных человеком, скрывается в засаде нечто потайное, черное, совсем-совсем незнакомое миру. Однако под ударом молотка исследователя это невинное внутреннее нечто в мгновение ока преобразуется в насыщенный, уверенный, земной образ внешней стороны, красной или серой. Как же в таком случае, спросил камень, исследователь со своим молотком, стремящийся проникнуть в сердце вселенной, может быть уверен, что там, внутри, что — то существует? Уж не выдумка ли это — все эти приманки с загадочным нутром, которые вселенная использует, чтобы оттолкнуть исследователей? (Погребенное в сундуке, мое сердце тоже прожило всю свою жизнь в темноте. Мои внутренности ослепили бы своим великолепием, если бы я себя распорол. Эти мысли вызвали у меня тревогу.)
Я размышлял и, возможно, даже видел сны о предмете своих снов. Мог ли я надеяться, что все беды, постигшие меня с тех пор, как я попал в страну намаква, были дурным сном? Были ли намаква просто демонами? Стал ли я узником собственной преисподней? Если так, то где путь, который выведет обратно, к дневному свету? Существует ли заклинание, которое я должен знать? Может быть, это заклинание просто «Мне снится сон» — если воскликнуть его с убежденностью? Если так, почему мне не хватает убежденности? Не боюсь ли я, что не только мое пребывание у намаква, но и вся моя жизнь, быть может, сон? Но если так, то куда приведет меня выход из моего сна? Во вселенную, единственным обитателем которой буду я, фантазер? Но не добрался ли я, таким образом, извилистым путем до сказочки, которую всегда держал про запас, чтобы утешать себя одинокими вечерами, — точно так же, как заблудившийся путник в пустыне бережет последние капли воды, предпочитая выбрать смерть, но только не смерть без выбора? Но, с другой стороны, разве эта сказочка не лишает жизнь изюминки?
Я поделился этими элегантными размышлениями с Клавером, под вечер, на третий день моего заточения, когда последние ласточки пронеслись над водой и появились первые летучие мыши. Сумерки всегда заставляют меня опрометчиво откровенничать. Клавер не понял ни слова и лишь вставлял «Да, господин» в каждой риторической паузе. Но меня слишком опьянили мои собственные рассуждения, чтобы быть благоразумным.
От занятных, но в общем-то бесплодных снов о себе и мире я перешел к теме своей карьеры в роли покорителя дикой местности.
В дикой местности я теряю ощущение границ. Это следствие пространства и одиночества. Воздействие пространства таково: пять чувств вытягиваются из вашего тела, но четыре вытягиваются в вакуум. Ухо не может слышать, язык не ощущает вкуса, пропадает обоняние. Кожа теряет чувствительность: солнце палит ваше тело, плоть и кожа двигаются в кармане из зноя, повсюду солнце. Но глаза свободны, они добираются до горизонта и видят всё вокруг. Ничто не укрыто от глаз. Когда остальные чувства молчат, зрение действует. Я становлюсь сферическим отражающим глазом, пробирающимся сквозь заросли и заглатывающим их. Разрушитель запустения, я движусь по земле, прорезая пожирающий путь от горизонта до горизонта. Нет ничего, от чего бы я отвел глаза, я — это все, что я вижу. Такое од иночество! Ни камня, ни куста, ни одного несчастного осторожного муравья, не включенного в эту странствующую сферу! Что же тут не я? Я — прозрачный мешок с черной Сердцевиной, полной образов, и с ружьем.
Ружье вселяет надежду, что существует что — то, помимо тебя самого. Ружье — наша последняя защита от изоляции внутри странствующей сферы. Ружье — посредник между нами и миром и поэтому наш спаситель. Новости от ружья: снаружи то-то и то-то, не бойся. Ружье спасает нас от страха, который сидит в нас всю жизнь. Оно делает это, кладя к нашим ногам все необходимые нам доказательства умирающего и, следовательно, живущего мира. Я продвигаюсь по дикой местности с ружьем у плеча своего глаза и убиваю слонов, гиппопотамов, носорогов, буйволов, львов, леопардов, собак, жирафов, антилоп, самую разную дичь, зайцев и змей; я оставляю за собой гору кожи, костей, несъедобных хрящей и экскрементов. Все это — моя разбросанная пирамида. Это дело моей жизни, провозглашение непохожести мертвых и, следовательно, непохожести жизни. Куст тоже, вне всякого сомнения, живой. Однако с практической точки зрения ружье против него бессильно. Существуют и другие способы распространения своего «я», которые могут быть действенными против кустов и деревьев и превратят их смерть в гимн жизни, — к примеру, огонь. Но что касается ружья, то, если всадить пулю в дерево, ничего не произойдет: дерево не истекает кровью, оно продолжает жить в своей древесности там и, следовательно, здесь. Другое дело заяц, издыхающий у ваших ног. Смерть зайца — логика спасения. Потому что либо он жил там и умер в мире предметов, и я доволен; либо он жил во мне и не умрет во мне, так как мы знаем, что еще ни один человек не возненавидел собственную плоть, что плоть сама себя не убьет, что каждое самоубийство — это заявление о том, что убийца отличен от жертвы. Смерть зайца — мое метафизическое мясо, так же как плоть зайца — мясо для моих собак. Заяц умирает для того, чтобы моя душа не слилась с миром. Слава зайцу! Тем более что его не так-то легко подстрелить.
Мы не можем подсчитать дикий край. Он не поддается счету, потому что безграничен. Мы можем сосчитать фиговые деревья, мы можем сосчитать овец, так как сад и ферма ограничены. Сущность дерева в саду и овцы на ферме — это число. Наше общение с дикой местностью заключается в неустанных попытках превратить ее в сад и ферму. Когда мы не можем ее огородить и сосчитать, мы уменьшаем ее до числа другими средствами. Каждое дикое существо, которое я убиваю, пересекает границу между дикой местностью и числом. Я отнял жизнь у приличного числа-у двух тысяч существ, не считая бесчисленных насекомых, которые погибли у меня под ногами. Я охотник, покоритель запустения, герой счета. Тот, кто не понимает число, не понимает и смерть. Смерть так же непонятна ему, как животному. Это относится к бушменам и проявляется в их языке, в котором нет цифр.
Орудие выживания в диком краю — ружье, но необходимость в нем скорее метафизическая, нежели физическая. Племена дикарей выжили и без ружья. Я тоже мог бы выжить в дикой местности, вооруженный лишь луком со стрелами, если бы не боялся, что, лишившись ружья, погибну не от голода, а от болезни духа, которая заставляет бабуина, посаженного в клетку, моментально опорожнять желудок, как только туда попала пища. Теперь, когда дикари увидели ружье, их племена обречены — не только потому, что ружье будет убивать их в больших количествах, а оттого, что жажда им обладать сделает их чужими дикому краю. Любая территория, по которой я шагаю со своим ружьем, теряет связь с прошлым и обращается в будущее.