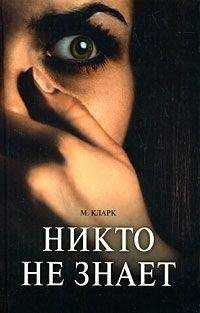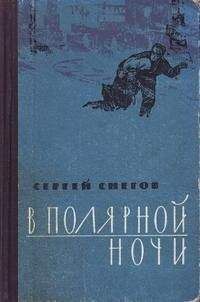Ханс Браннер - Никто не знает ночи
Он опять поднес стакан ко рту и, бросив взгляд на сидящего напротив, встретил невозмутимо-многомудрую улыбку.
– Извини, – сказал он, – извини меня за параноидные разглагольствования. Я говорю, разумеется, лишь о себе. Гедонист, счастливый, свободный от предрассудков любитель наслаждений, – другое дело. – Осушив свой стакан, он почувствовал, что наконец-то полностью протрезвел. Он вступил в фазу ясности, зеркально отчетливой ясности, когда малейший звук иглой вонзается в нервы, а предметы расчленяются на гротескно увеличенные детали. Ощутив сухую резь в глазах, он закрыл их, потом снова открыл. – Скажи, у тебя зеркало над кроватью висит? – спросил он.
– Зеркало?… С чего ты взял?
Томас усмехнулся: доктор внезапно изменил тон, и вот тут-то – тут пепел с его сигареты упал и рассыпался по фрачной паре. Он достал из нагрудного кармана платок и смахнул его, но на блестящем атласном отвороте осталось серое пятно. Он дул на него, тер платком и наконец соскреб кончиком ногтя. Тихий царапающий звук причинил Томасу физическое страдание.
– Ну, может, не над кроватью, тогда в другом соответствующем месте, – сказал он. – Не помню, я когда-нибудь видел твой холостяцкий дом? Нет, по-моему, я ни разу у тебя не был, но я перевидал столько всяких домов, столько низкой удобной мебели для сидения и лежания, столько глубоких кресел, диванов и кушеток! Вся эта узорчатая пестрота, -продолжал он, – все эти полосатые, клетчатые, цветастые ковры и подушки, портьеры и обои – все перепуталось, разве упомнишь, где что было, я столько лет своей жизни провел в подбитых шелком китайских шкатулочках. Может, я просто во сне это видел, – сказал он, – может, мне просто пригрезилось, что у тебя есть большое зеркало, привешенное в таком месте, где тебе удобно любоваться самим собою в лежачем положении.
– Ну а если б и было зеркало, – полная снисходительного превосходства ухмылка по-прежнему проглядывала в уголке рта доктора, – что в том дурного? Кому это во вред? Почему я должен лишать себя возможности смотреть? Совершенное наслаждение предполагает согласное звучание всех пяти чувств.
– Конечно, – сказал Томас. – Кажется, такое принято называть извращением, но, конечно же, это совершенно невинная вещь – на ум приходит сравнение с ребенком, познающим свое подвижное тело. Представь себе грудное дитя, которое лежит в колыбели и крутит, вертит ручонками у себя перед глазами или хватает себя за ножку и засовывает ее в рот. – Он повертел в руке пустой стакан и подумал было встать и пойти наполнить его, но одновременно подумал, что надобность в этом отпала, он теперь и так в состоянии координировать свои движения, он вполне владеет своим голосом. – Ну а после, – продолжал он, – в молодости? Представь себе свой физико-механический акт в обрамлении всей многообразной природы. Ты любишь в лесу, любишь на берегу моря, ты слышишь, как ветер шелестит листвой, внимаешь шуму прибоя, ты видишь клин перелетных птиц на фоне полной луны или различаешь вдали белый парус на солнечной дорожке, ты – частица этих предметов и явлений, или они – частица тебя, ты создал их в детстве по своему образу и подобию. Однако предметы и явления следуют собственным, присущим им законам и возвращаются в исходную точку, многообразие ограничивается, подвижный образ застывает, превращаясь в затейливые арабески. Ты лежишь за опущенными гардинами и созерцаешь гобелен, узор из неких символических фигур, а когда наглядишься на них до слепоты, они отходят на задний план и уступают место зеркалу. И вот ты заново обретаешь себя, переживая второе детство, ты вторично познаешь нагое человеческое тело. Ты не замечаешь увядания, не веришь в грех, ни на секунду не задумываешься о смерти – ты создаешь это все по своему образу и подобию. Но, разумеется, не отдавая себе в этом отчета, – добавил он в ответ на презрительную гримасу своего визави, – а просто чувствуя, что уродливость красоты и красота уродливости придают остроту наслаждению, служат эротическим стимулятором, если пользоваться твоими иностранными словечками. Каких только не бывает возбуждающих средств, – продолжал он, – мне рассказывали о человеке, у которого была навязчивая идея, будто он способен к эрекции – кажется, так это у вас именуется? – только если он перед этим побывает на похоронах. Это был мужчина во цвете лет, и он чуть ли не каждый день ходил в церковь, сидел и слушал органную музыку и псалмопение, быть может, даже представлял себе, что это его собственный труп лежит в украшенном цветами гробу на катафалке. После чего он встречался со своими любовницами, которых постоянно менял, и обнаруживал невероятную живость и высочайшую потенцию. Как же, потенция – это ведь основа основ, – продолжал он, – священный долг мужчины – быть готовым к совершению физико-механического акта когда угодно и с кем угодно. А нет ли в этом элемента тирании? По мне, так иной раз не грех посчитать это скучноватым и утомительным…
Томас зевнул. Резь в глазах мучила его, закрыть бы их хоть на полминуты, но движения человека по ту сторону стола приковывали к себе его взгляд. Белая стрелка на черном носке раскачивалась все нетерпеливей, руки с маникюром без устали играли тончайшим носовым платком: то растягивали и крутили за кончики, как скакалку, то свертывали его, и получалась фигурка, мышка, маленькая белая мышка. Следя глазами за платком, Томас уловил тонкий аромат мускуса. Духи Дафны. И платок ее? Его опять больно кольнула ревность, и он вернулся к прерванному разговору.
– Извини, – сказал он, – прости пациенту шизофренический ход его мыслей. Я говорю, разумеется, лишь о себе. Счастливому гедонисту скучно не бывает, он полон сил и неутомим. Уж тебе-то бояться нечего, – продолжал он, – ты еще молод. Ну, может, не первой молодости, но, во всяком случае, до старости тебе далеко. Мужчина во цвете лет. Неужели я правда не бывал у тебя в твоем холостяцком доме? Да нет, я и не мог там быть, мы же с тобой едва знакомы, и, однако, мне так ясно все представляется. Утром ты встаешь и делаешь гимнастику: сгибание рук в локтях, приседания, повороты туловища вправо и влево, несколько упражнений с гантелями, немножко бокса – «бой с тенью». Ты взвешиваешься и констатируешь, что пока не набрал лишних килограммов, подходишь к зеркалу и разглядываешь свою обнаженную натуру: сильное тело настоящего мужчины. И лицо молодое, даже еще более молодое оттого, что жизнь прочертила его своим резцом – твоя молодая, сильная, живая жизнь, Волосы на макушке немного повылезли, что втайне, наверно, тебя гнетет, но можешь утешиться: я где-то вычитал, что по статистике лысые мужчины – самые лучшие любовники, с самой высокой потенцией…
Помолчать бы сейчас, подумал Томас, закрыть глаза и помолчать. Но голос его продолжал:
– Даже не верится, что я никогда у тебя не бывал, я так живо вижу, как ты ходишь по комнатам и делаешь последние приготовления: задергиваешь гардины, зажигаешь там и сям уютные светильники, что-то перекладываешь, переставляешь, пока не удостоверишься, что все у тебя как нужно. В ожидании есть свое особое наслаждение: пройдет немного времени – и ты перестанешь быть самим собой, ты будешь не ты, а два человека, или даже не два, а много: ведь все женщины разные, да и в одной и той же женщине столько всего намешано, в ней есть что-то и от преды-душей, и от следующей, что придет после нее. Один и тот же накрытый стол ожидает их всех: здесь морская живность и лесная дичь, здесь всевозможные фрукты – ты только подумай, какое на свете обилие яств и питий, вот уж что никогда не надоедает. Ты сидишь во главе стола, перед тобою горят свечи, ты преломляешь хлебы и вкушаешь вино, ты ткешь свой словесный узор. Подумай, сколько на свете есть слов, их можно бесконечно низать друг на друга, сплетая в замысловатую вязь, и все же они только прелюдия к собственно наслаждению, которое по своей спиральной дорожке восходит на вершину, к совершенной кульминации. По пути встречаются волшебные уголки – Verweile doch, du bist so schönl [20], – встречаются и грозящие опасностью бездны, но что тебе опасность, она лишь возбуждает! – Der echte Mann will Gefahr und Spiel [21]… Прости меня за немецкий язык, у пьяных в обычае изъясняться на иностранных языках. Я просто хотел сказать: подумать только, какую неисчерпаемую сумму наслаждений вмещает человеческая плоть: буйство и нежность, ликование и отчаяние, власть и покорность, и ведь это лишь осознаваемая часть, а есть и другое: ощущение раскованности, животной свободы, полное бездумье, погружение в стихию чистейшей невинности…
Он умолк. С чего я мелю этот вздор, подумал он, этот убийственно скучный вздор?
– Так о чем бишь мы говорили? – снова начал он. – Ах да, вспомнил: о совершенной кульминации. И вот ты очнулся, желать больше нечего, ты чувствуешь некоторую пустоту и скуку, может, даже ловишь себя на том, что зеваешь, но это продолжается не слишком долго, минут десять, ну, полчаса. В полумраке мерцает большое кристально ясное зеркало. Я вижу, как ты находишь в нем себя: ты выпячиваешь грудь, ты сгибаешь руки, так что бицепсы выступают наружу, ты поднимаешь ногу и напрягаешь мышцы в икре и в ляжке – твоя богоподобная мужская сила вздымается над вечно женственной слабостью. Почему ты должен лишать себя возможности смотреть? Совершенное наслаждение -это консонанс всех чувственных ощущений. Спустя короткое время ты уже опять взбираешься по крутой спиральной тропинке, ведущей в небеса, сердце твое бешено колотится, глаза застилает туман, но ты торжествуешь победу, ты чувствуешь, как земля сотрясается во второй раз, в третий раз. Впереди у тебя вся ночь, и молодость не подводит – ты по-прежнему на высоте, раз за разом ты сам себя превосходишь. В глубине твоей плоти таится страх перед импотенцией, перед непостижимым падением – утратой мужской силы, но ведь и страх своего рода стимулятор, возбуждающие средства скрываются во всем, к чему ты прикасаешься, начиная от девственной женской груди и кончая такой мелочью, как вечная сигарета, от которой у тебя желтеют кончики пальцев и возникает одышка, когда ты взбегаешь по лестнице. У каждого есть свой особый, пусть и ничтожный, ад, в котором мелкие и крупные вещи равно важны. Я мог бы, к примеру, рассказать тебе о женщине, заблудившейся в дебрях сексуальной символики, из которых она так и не выбралась: даже смерть ее являла собою картину coitus interruptus [22] – она осталась лежать со скрюченными пальцами и разинутым ртом. Но мы отвлеклись, на чем мы остановились? Так вот, значит, Бог, тот Бог, в которого ты не веруешь, возможно, он все же услышит твои мольбы и сподобит тебя умереть в миг эротической кульминации, хоть это и произойдет иначе, чем ты себе мыслил. Я тоже не верую ни в какого Бога, но боюсь, что наши мольбы где-то и кем-то всегда бывают услышаны, и, если мы достаточно терпеливы и выносливы, в конце концов исполнение желаний настигает нас в неожиданной, совершенно неузнаваемой форме. Подчас оно имеет вид бессмысленной жестокости, но ведь наши представления так бедны, мы не понимаем, о чем сами же молим. С чего тебе желать умереть сейчас, когда у тебя впереди вся прекрасная пора зрелости? Я мысленно вижу тебя, каким ты будешь через десять лет, через двадцать лет: ты все такой же, в сущности, ты ни на год не постарел, хотя жизнь оставила на твоем лице еще более отчетливые следы – твоя вечно молодая жизнь. Ты сидишь у камина, на тебе атласный шлафрок в белый горошек, на голове – красная феска с черной кистью. Нет, в самом деле, я ясно вижу, как ты сидишь и греешься у огня, слушая приглушенную музыку, которая льется из автоматического проигрывателя. Что может по своей гипнотической силе сравниться с музыкой? Все женщины – разные, и у каждой женщины своя мелодия, свой особенный музыкальный образ, живо воскрешающий память о ней. Ведь даже если человек не признает мечтаний и грез, то память о живой, осязаемой жизни всегда остается с ним, она – неисчерпаемый кладезь наслаждения, к тому же в облагороженной форме, очищенной от всяких несущественных и уводящих в сторону деталей. Пластинки сменяют одна другую сами, без всякого твоего участия, маленький сапфир бежит и бежит по спиральной дорожке, разнообразные музыкальные темы распадаются на бесчисленные вариации и, обогатившись, возвращаются обратно. Камин пышет нестерпимым жаром, да и слушать без конца довольно-таки утомительно: незаметно для себя ты позевываешь, красная феска начинает кивать. Для тебя в твоем полузабытьи непохожие, разные темы сливаются в некий общий лейтмотив, ты будто слышишь упражнения ребенка, играющего одну вечную гамму. Ты встаешь и выключаешь проигрыватель, ты делаешь круг по комнате и останавливаешься перед рядом женских портретов на камине, ты берешь в руки один из них и разглядываешь его вблизи. Это больше чем просто фотография, это произведение искусства, гармоничное сочетание светлых и темных тонов, тоже очищенное и облагороженное. Если под глазами были темные круги или морщинка залегла у губ, искусная ретушь их убрала: глаза сулят небесное блаженство, а губы шепчут три заветных слова. Ты долго стоишь и любуешься портретом, потом берешь в руки следующий, а за ним еще и еще – ты никак не можешь вдосталь наглядеться, а если глаза твои в конце концов устанут и все лица заволокутся дымкой, обратившись в одну и ту же неясную игру света и тени, то найдутся другие, еще более сильные гипнотические средства. Ты выдвигаешь ящик стола и достаешь небольшую вещицу, к примеру тончайший носовой платок, ты развертываешь его, Держа перед собой, ты откидываешь голову назад и накрываешь им лицо. Он невесом, точно паутинка, но заряжен чудодейственной силой, как реликвия, ибо все еще хранит волнующий аромат женщины, это занавес, за которым вход в святая святых. Сердце твое колотится сильнее, ты подходишь к окну и плотнее задергиваешь гардины, на всякий случай ты поворачиваешь ключ в двери, прежде чем открыть потайное отделение в шкафу и что-то оттуда извлечь. Я плохо вижу, что это такое, в комнате стало почти совсем темно, но я догадываюсь, что это туфля, женская туфелька. Ты сидишь, откинувшись в глубоком кресле, и держишь ее на коленях, ты оглаживаешь ее со всех сторон, ласкаешь тонкий каблучок, ты протискиваешься внутрь и нашариваешь отпечаток ноги. Мечты и грезы – от лукавого, но отчего бы не дать волю творческой фантазии? Ты слышал историю об узнике, приговоренном к пожизненному заключению? У него в камере жила мышь, которую он постепенно приручил, выманивая из норы хлебными крошками, он сжимал эту мышку в ладонях, наслаждаясь ее хрупким теплом, он любил и желал ее так, как никогда в жизни ничего не любил и не желал. Существует очень много всяких любовных средств, а мужская сила никогда не может полностью иссякнуть. Ты сидишь, ощупывая след от ножки чуткими пальцами слепца, и из слабого отпечатка вырастает живой, облеченный плотью и кровью храм. Темнота сгустилась, я уже совсем плохо вижу тебя в твоем кресле, но я слышу твое дыхание. Мало-помалу, почти незаметно, приходит исполнение заветного желания. Сердце твое перестает биться, выкатившиеся глаза делаются огромными, взгляд застывает, превращаясь в кристально ясное зеркало пустоты. Или в зеркале что-то виднеется? Что-то как будто белеет на дне кладезя наслаждений? Какая-то фигура или торс, некогда, возможно, изображавшие женщину, или ребенка, или животное; возможно, что так, а возможно, это просто мертвый белый камень, какие находишь на морском берегу, гладко отшлифованный прибоем камень, некая неузнаваемая анонимная форма…