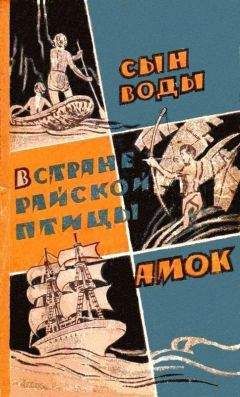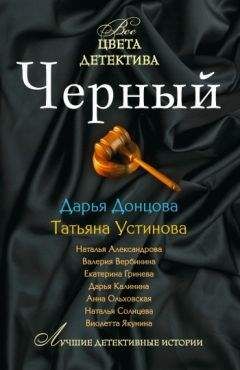Джон Бэнвилл - Море
В эркере салона, то есть бывшей гостиной, был накрыт к чаю раздвижной столик. Комната была точно такая, какой мне запомнилась, или так мне казалось — память норовит без зазора прилаживаться к местам и предметам при возвращении в прошлое. Этот столик — неужели он тот же, возле которого миссис Грейс охорашивала цветы в тот день, когда играла с мячом собака? Сервировка на высоте: большой серебряный чайник, под стать ему ситечко, прекрасные чашки, щипцы для сахара, салфеточки. Сама мисс Вавасур выступала в японском стиле — пучок, крест-накрест проткнутый двумя большущими булавками, мне некстати напомнил те эротические гравюры японцев восемнадцатого столетья, на которых одутловато-фарфоровые матроны хладнокровно дают себя тискать гримасничающим господам с несуразно огромными членами и, всегда с удивлением их отмечаю, непостижимо гибкими пальцами ног.
Разговор разваливался. Мисс Вавасур как-то еще не оправилась, у полковника урчало в животе. Поздний луч, пробив куст в шуршащем саду, слепил глаза, на столе от него все дрожало и зыбилось. Я чувствовал себя слишком громадным, не знал, куда деться, как скверный подросток, которого отчаявшиеся родители отправили в деревню, на попечение к парочке пожилых родственников. Может, это все — гнусная ошибка? Может, пробормотать извинение, а и смотаться на ночь в гостиницу или даже домой, и пускай там пусто, пускай там эхо? Но тотчас я сообразил, что для того сюда и явился, чтоб была ошибка, чтоб было гнусно, чтоб сам я был, по словцу Анны, да, чтоб я был неуместен. «Ты с ума сошел, — говорила Клэр. — Ты ж там помрешь со скуки». Да, ей хорошо рассуждать, пикировал я, обзаведшись чудной новой квартирой, не теряя времени — этого я не прибавил. «Ну так давай, живи со мной, — сказала она, — места и на двоих хватит». Жить с ней! Места хватит! Но я только поблагодарил и сказал, что мне нужно побыть одному. Не выношу этот взгляд, каким она теперь на меня смотрит, сплошная нежность, дочерняя забота, и голова набок, вот как у Анны бывало, и вздернута бровь, участливо сморщен лоб. Не надо мне участия. Мне дайте злость, ругань, грубость. Я как тот страдающий бешеной зубной болью упрямец, который с мстительным наслаждением все давит кончиком языка на пульсирующее дупло. Вот, воображаю — кулак, из ниоткуда, с размаху, мне заезжает по морде, даже чувствую стук, слышу, как трещит переносица, и почему-то мне легче. После похорон, когда все вернулись в дом — ужасно, ужасно, немыслимо, — я так сжал рюмку, что она треснула у меня в кулаке. Удовлетворенный, я смотрел, как течет моя кровь, будто это кровь заклятого врага и я его от души полоснул.
— Вы, стало быть, по части живописи, — осторожно начал полковник. — И много она дает?
Он имел в виду — денег. Мисс Вавасур, поджав губы, свирепо нахмурилась и укоризненно затрясла головой.
— Он только о ней пишет, — зашептала она, глотая слова, как будто таким образом я буду избавлен от необходимости их услышать.
Полковник быстро переводил взгляд с меня на нее и молча кивал. Он все ждет подвоха, к такому приучен. Когда пьет чай, отставляет мизинец. На другой руке мизинец навсегда прижат к ладони, какой-то это синдром, вполне даже обычный, только я названье забыл; впечатление такое, будто ему больно, но он уверяет, что нет. Эта рука вдруг пышно, элегантно и широко взмывает — жест дирижера, будящего деревянные духовые или извлекающего из хора фортиссимо. Легкий тремор тоже имеет место, чашка не раз клацала о передние зубы, вставные, конечно, судя по ровности и белизне. На обветренном лице и с тылу ладоней кожа сморщенная, темная и глянцевитая, как та плотная глянцевая бумага, в которую, бывало, заворачивали что-нибудь неудобопакуемое.
— Понимаю, — сказал он, конечно ничего не поняв.
Однажды в 1893 году Пьер Боннар заметил девушку, сходившую с парижского трамвая, привлеченный ее хрупкой бледной миловидностью, проводил до места, где она работала — pompes funèbres[13], целыми днями нанизывая жемчуга на кладбищенские венки. Так с самого начала смерть оплела их жизни траурной лентой. Он быстро с ней познакомился — как я понимаю, это легко и лихо делалось в дни Belle Epoque[14], — и вскоре затем она бросила работу и все прочее в своей жизни и переселилась к нему. Она сказала, что зовут ее Марта де Мелиньи и что ей семнадцать. На самом же деле, хоть ему это довелось узнать уже через тридцать лет, когда он на ней надумал жениться, звали ее Мария Бурсен, и, когда они познакомились, ей было не семнадцать, а так же, как самому Боннару, двадцать с хвостом. Так вот и сошлись они на светлые и черные дни, а если точней, сероватые большей частью, почти на пятьдесят лет — пока Марта не умерла. Таде Натансон, одна из ранних покровительниц Боннара, в своих мемуарах о нем беглыми, импрессионистическими штрихами рисует сильфидную Марту, помянув дикий взгляд птицы, движенья на цыпочках. Была она скрытная, ревнивая, жуткая собственница, страдала манией преследования и отчаянной, страстной мнительностью. В 1927-м Боннар купил дом, Ле-Боске, в неприметном городке Ле-Канне на Лазурном берегу, и там прожил с Мартой, заточась в периодически мучительном уединении, пятнадцать лет, до ее смерти. В Ле-Боске она пристрастилась к многочасовым ваннам, и там-то, в ванне, Боннар и писал ее, снова и снова, продолжая писать, когда уж ее не стало. В «Обнаженной в ванне, с собачкой», начатой в 1941-м, за год до смерти Марты, и оконченной лишь в 1946-м, она лежит, розовая, лиловатая, золотая, богиня плавучего мира, истонченная, безвозрастная, ни мертвая ни живая, а рядом на плитках лежит коричневая собачонка, ее любимица, такса, по-моему, бдительно свернувшись на своем коврике, или это квадрат слоистого света, упавший из невидимого окна. Узкая комната, прибежище Марты, дрожит вокруг, вибрирует красками. Невозможно длинная левая нога напряженной стопой упирается в край ванны и как будто ее толкает, меняет ей форму, и как бы взбухает левый край, и пол под ванной с этой стороны, в том же силовом поле, тоже сдвинут, и кажется, вот-вот он прольется в угол, не пол, а текучий пруд, поблескивающий водой. Все течет, дрожит, движется в тишине, в молчанье воды. Плеск, шелест, шорох. На воде у левого плеча купальщицы красно-ржавое пятно, может, ржавчина, а может, засохшая кровь. Правая рука лежит на бедре, упокоенная простертостью тела, и я вспоминаю руки Анны, на столе, в тот день, когда мы впервые вернулись от доктора Тодда, эти ее беспомощные ладони, открытые, как будто просящие о чем-то, кого-то по ту сторону стола, но там никого нет.
И она, моя Анна, тоже пристрастилась к долгим ваннам средь бела дня. Успокаивает, говорила. На всю осень, всю зиму в тот год ее долгого умирания мы заперлись в нашем доме у моря, в точности как Боннар с Мартой в Ле-Боске. Погода была мягкая, такое даже погодой не назовешь, как будто незакатное лето неприметно перетекало в конец года в отуманенной тишине неизвестно какого сезона. Анна боялась весны, непереносимого гомона, суетни, она говорила, всей этой жизни. Глубокая, сонная тишь нас окутывала, мягкая и густая, как ил. Анна так затихала в своей ванной первого этажа, что я иногда даже пугался. Мерещилось, что вот она, поскользнувшись, без звука уходит под воду, испускает последний водяной вздох. Я прокрадывался вниз по лестнице и стоял на площадке, затаясь, не шевелясь, будто я сам под водой, и жадно ловил признаки жизни за дверью. В гнусном, предательском уголке души, конечно, мелькало желанье, чтоб так оно и было, чтоб все это кончилось, для нее, для меня. Но вот слышался легкий вздох воды — это она шелохнулась, легкий всплеск — потянулась за полотенцем, за мылом, — и я отворачивался, плелся к себе, прикрывал за собой дверь, садился за письменный стол, смотрел в серое свечение вечера и старался не думать.
— Бедный Макс, — сказала она как-то, — за каждым словом следить приходится, все время надо быть милым.
Она тогда уже была в приюте, в дальней комнате в старом крыле, с угловым окном, смотревшим на клин живописно запущенного луга и шелестящую, на мой взгляд совершенно ненужную просадь высоких, огромных черновато-зеленых деревьев. Весна, которой она так пугалась, пришла и ушла, но она слишком была больна, чтобы беспокоиться из-за шума и гама, и теперь наступило влажно-жаркое, липкое лето, последнее, какое ей суждено было видеть.
— О чем ты? — сказал я. — Приходится все время быть милым?..
Она так много странного говорила тогда, как будто уже была где-то там, где меня нет, где даже слова переменили значения. Сдвинула голову на подушке и мне улыбнулась. В лице, иссохшем почти до костей, проступила какая-то пугающая красота.
— Ну, тебе теперь даже нельзя чуточку меня ненавидеть, — она сказала, — как раньше.
Поразглядывала деревья, опять повернулась ко мне, потрепала по руке.
— Ну чего ты уж так-то расстроился, — сказала она. — Я тоже тебя ненавидела — чуточку. Мы же люди были, человеки, ведь правда.