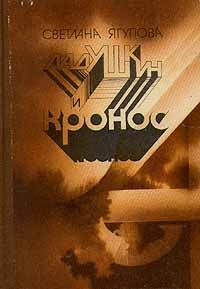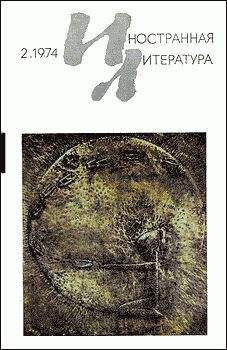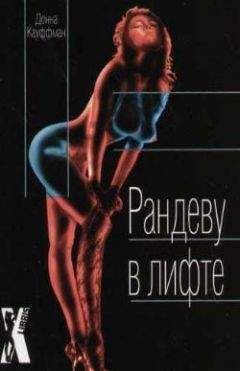Мартин Вальзер - Браки во Филиппсбурге
— Сын муз страдает за наш мир. Так и быть должно.
Вилла Фолькманов точно вымерла. Тишина болезненно отдавалась в ушах. Слава Богу, по комнатам еще сновали туда-сюда, занимаясь уборкой, горничные. Временами Алиса Дюмон и госпожа Фолькман заливались звонким смехом, и он еще резче оттенял тишину. А то Алиса, положив голову на белоснежное плечо госпожи Фолькман, шептала ей нежные слова и называла единственным своим другом. Разговор ежеминутно обрывался, агонизировал, точно задыхающаяся в воздухе птица; еще два-три удара крылом, секунда, а то и две, и разговор увял окончательно. Молчание гремело у всех в ушах.
— Придется мне все-таки рассказать парочку историй из практики, — объявил доктор Бенрат, внезапно и безжалостно разрывая тишину.
Тут встал господин Фолькман, улыбнулся всем, словно все сидящие вокруг были его любимыми внуками, приподнял плечики и сказал, изобразив на лице любезное огорчение:
— Ничто не доставило бы мне сейчас столько удовольствия, как гинекологические истории, но я не имею на то права, я не могу, мой тиран призывает меня, — он постучал пальцем по карману, где носил календарь-памятку, — раб вынужден подчиниться. Не сердитесь, господа, пожалейте лучше меня. Мне предстоит сегодня вечером обсудить с инженером новую форму шасси! И прежде всего пожалейте потому, что я еще рад этому обстоятельству!
Слегка пожав плечами и поклонившись, он повернулся и засеменил прочь. Анна тут же начала новый разговор, заведя речь о гостях сегодняшнего приема. Видимо, под угрозой историй из практики гинеколога уста ее разверзлись.
И верно, тема «гости» стала первой с начала ужина, в обсуждении которой приняли участие все, кроме, разумеется, Ганса. Правда, Анне не удалось помешать своим друзьям вести разговор в той легкомысленной манере, которую она сама, по-видимому, не любила. Алиса, назвав жену адвоката Альвина «аристократической козой», объявила, что та не в состоянии даже удовлетворить своего брюхана. Доктор Бенрат внес в этот вопрос ясность, разъяснив сексуальные возможности худощавой женщины в отношениях с полнотелым мужчиной. Потенция такого мужчины связана главным образом с его стремлением не быть импотентом, поучал он, к этому обстоятельству и должна приноравливать женщина свои эротические маневры. С другой стороны, скудная плоть женщины ничего не говорит о ее постельных возможностях; как раз женщины, отличающиеся телесной скудостью, сплошь и рядом бывают наделены самой буйной фантазией… Доктор Бенрат не произнес ни одной фразы, в которой не пускал бы в ход ошеломительно наглядные понятия. Точнейшую латинскую терминологию он тесно сплетал с самым вульгарным уличным жаргоном, создавая вокруг слушателей этакую врачебно-скабрезную словесную атмосферу. Его жена, темноглазое существо, с каким-то страхом смотрела ему в рот, словно страшилась каждого следующего слова. Когда он начинал говорить, Алиса, госпожа Фолькман и даже Анна переставали жевать, выворачивали в его сторону глаза, изящно изгибали шеи и приподнимали головы, изображая безоглядно-откровенную увлеченность. Доктор Бенрат, видимо, очень хорошо знал, какое впечатление производят его истории. Он сидел спокойно, ничуть не торопился и не волновался, напротив, чем беспощаднее и нагляднее нагромождал он в своих речах всевозможные картины, что с бешеной силой тропического водопада обрушивались на каждую клеточку слушателя, тем тише он говорил, тем словно бы непреднамеренней выбрасывал слова изо рта. В то же время дочерна загорелый великан весьма изящно и уверенно управлялся с рыбным прибором и так быстро, даже грациозно разделал залитую винным желе форель, что хотелось тут же лечь на стол, чтобы он и тебя тоже прооперировал. Список гостей прочесали еще чуть дальше, и тут Анна сказала, жаль, мол, что Сесиль не осталась на ужин; Ганс заметил, как доктор Бенрат пристально поглядел на Анну. Все молчали, слышно было лишь тупое постукивание ножей и вилок по тарелкам. Наконец госпожа Фолькман спросила:
— Вы еще продолжаете рисовать, Альф?
— Только в отпуске, — ответил доктор Бенрат.
— Да, все мы деградируем, — сказала госпожа Фолькман и уставилась куда-то в темноту парка.
Рот Алисы раскололся в смехе.
После ужина все откинулись на спинки кресел, лежали, вперив взгляд в небо, и снова пили. Вдруг Алиса, охнув, подскочила:
— Нам нужно что-то предпринять. Разбужу-ка я писателя.
— Пожалуйста, не надо, — сказал доктор Бенрат и легко вскочил, на фоне темного неба он выглядел еще массивнее, чем обычно.
— Нам нужно еще выпить, — решила госпожа Фолькман. — Ужин нас протрезвил.
Она тут же стала со всеми чокаться и не отступилась, пока все единым махом не опрокинули свои рюмки. Но как ни старалась она создать то, что называла «настроением», из этого ровным счетом ничего не выходило. Алиса чертыхнулась и заявила, что настоящих мужчин больше не существует. Госпожа Фолькман поздравила приятельницу с подобным открытием. Ганса знобило, и он опрокинул в рот полную рюмку, а затем маленькими глотками стал пропускать ее содержимое в глотку. Доктор Бенрат давал разъяснение по поводу необратимого процесса феминизации «самцов в смокингах», иначе говоря, мужчин из высшего общества.
Ганс был бы счастлив, будь он единственным слушателем Бенрата. Но в этом обществе он не мог в полной мере насладиться столь чудесными, на его взгляд, речами. Вот бы иметь такого друга! Каждодневно слышать такие речи! Все, что говорил Бенрат, казалось ему куда значительнее оторванной от жизни учености, которой его пичкали в университете. Все, что говорил Бенрат, звучало так, словно он все сам пережил, словно все исходит из его нутра. Вот это истинный университет! Вспоминая же о курсе журналистики, Ганс испытывал такое ощущение, будто ему три года подряд через бесцветную синтетическую трубочку сыпали в голову столь же бесцветный, безвкусный и лишенный запаха порошок, бумажную труху или перемолотые оболочки личинок, во всяком случае материал, даже шум произвести не способный. Вот почему Ганс не мог принять сейчас участие в разговоре. Даже то, что он слышал на лекциях по философии и литературоведению, было на живую нитку слеплено из пыли и отжатого тумана, поэтому кроме двух-трех биографий он ни черта не запомнил. Разумеется, он прекрасно сознавал свою исключительную бездарность, писатель Хельмут Мариа Диков служил доказательством, что и после подобных университетов можно сделать карьеру.
Доктор Бенрат все еще говорил о самцах. Ганс потел, буравил взглядом черные кроны деревьев в парке, точно мог тем самым скрыть свое присутствие. Как ни восхищается он этим гинекологом, но ведь здесь дамы! Какой же они отличались искренностью, какой неуязвимой чистотой, если столь равнодушно болтали о предметах, от которых у него кровь бурлила в жилах. Он почувствовал, как заполыхали жаром его чресла, как то, чему он не знал имени, набухло и затвердело, Господи, да замолчите же! Неужели он один такой отсталый или скверный и испорченный, что не может отмежевать слова, произносимые с такой легкостью, от предметов, которые они обозначают? Он залпом осушил еще рюмку, на этот раз не придержав вино во рту, а единым махом влив его в разверстую глотку, даже не потрудившись глотнуть. Отчего это люди, всему на свете подобрав прозвание, даже тому, чего не существовало вовсе, не подобрали его только мясистому выросту, что жарко вспучивался сейчас меж его бедер, они не подобрали слова, которое можно было бы произнести, сохраняя приличия, — имеются две-три абстрактные формы, звучащие столь же мерзко, как и те выражения, что знакомы всем по достаточно грубым словообразованиям. Вот сердце же получило название, и, произнося это слово, мы представляем его себе, не думая тотчас о кровоточащем куске мяса, подвешенном в грудной клетке. Разум получил наименование, под этим словом понимаешь куда больше, чем просто миллион-другой ганглий, и кровь — это не только красная жидкость, которую видишь при ранениях. Тому, что эти органы собой представляют, и тому, что они значат для человека, слова найдены. Но нечто там, внизу, осталось по ту сторону слов, оно до сего дня, по сути дела, не поименовано, а потому таит в себе что-то загадочное — любовь ведь не его сущность, и сексуальность тоже, разделение этих понятий порождено научным невежеством, и теперь это нечто стало чудовищем, диким зверем, чем-то, что надо взять под опеку, чем-то, что скверно пахнет и низводит до пошлости даже самый независимый дух, чем-то, что требует контроля, как вода для турбин, ибо турбины суть гордые создания человеческого разума, совершеннейшие сооружения инженерной мысли, подчиняющие себе первозданную непознаваемую силу, обращая ее в силу, которая поддается трезвому подсчету… Ганса угнало куда-то по бурным водам фантазии, словно лодчонку, что вовсю раскачивают бушующие волны, каждый миг грозя опрокинуть или разбить о скалу. Цветистая точность мускулистого гинеколога терзала его. Никогда еще он так не чтил Анну, как в тот миг, когда она — видимо, тоже какая-то пришибленная крайним цинизмом их беседы, — воспользовавшись паузой доктора Бенрата, сказала: