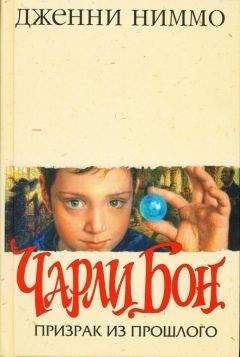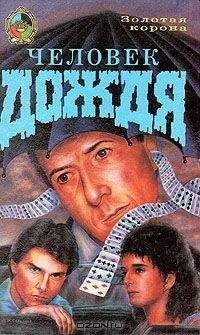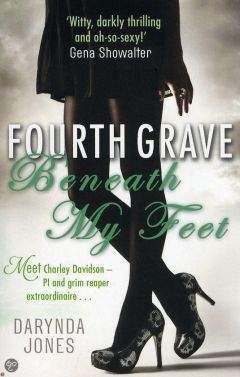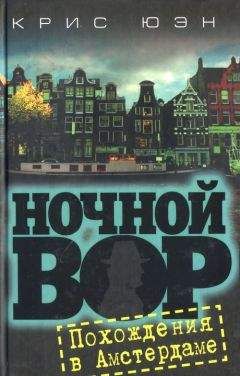Евгений Гришковец - Реки
Они ехали и удивлялись гораздо сильнее, чем могли бы удивиться первые люди, вступившие на луну, и обнаружившие там… ну, к примеру, муравейник или пчелиный улей.
Они ехали в город из аэропорта, и кому-то из них становилось неловко за целый мешок медикаментов, который лежит в багаже. А когда они проезжали мимо фотомагазина с надписью «Кодак» или «Фуджи», они усмехались, вспоминая про кучу фотопленки, которую купили еще дома и взяли с собой, чтобы фотографироваться с местными жителями, оленями или медведями, и конечно, чтобы обязательно сфотографировать знаменитые сибирские тюрьмы и каторги.
Они, конечно, будут посмеиваться устройству гостиницы, куда их поселят, картинам, висящим в номерах и коридорах. Будут недоумевать по поводу слишком коротких юбок, слишком яркого макияжа, слишком длинных ногтей, и всему тому, что слишком у большинства сибирячек, которых они встретят в ресторанах, в каких-то приемных каких-то офисов или в фойе гостиницы. Но они почувствуют, что все это им нравится.
Они, конечно, поездят по городу и по окрестностям, пофотографируют избы за городом, памятники и странности архитектуры в городе, и еще… Еще что-то пофотографируют.
Довольно быстро они привыкнут к, в большинстве своем, коренастым и пузатым своим сибирским коллегам. Привыкнут к беспрерывным тостам во время ежевечерних встреч, к поездкам в баню, как к неизбежному испытанию. К повышенному интересу женщин к себе. Почти моментально они научатся материться. А главное, войдут во вкус.
И вот поляк или венгр, я уже не говорю про бельгийца или австрийца, который ехал в Сибирь, ощущая себя спускающимся с неких цивилизованных и устоявшихся вершин куда-то вниз, уже не очень хочет возвращаться восвояси. А как же? Где перед ним в один вечер может произойти такой ураган жизни? Где его будут расспрашивать обо всем, интересоваться его мнением обо всем и так внимательно слушать? Где ему будут так часто и так значительно пожимать руку? Когда в его честь за один вечер произнесут столько не вполне понятных ему, но весьма пафосных тостов? С какой стати еще из-за него накроют такой стол и выпьют столько водки? И когда еще перед его, уже меркнущими от выпитого без должных навыков алкоголя, глазами, произойдет открытие души, прямо у него в гостиничном номере, потом попытка отдачи ему последней рубахи и смертельная обида на него же за то, что он от этой последней рубахи вежливо отказался.
И где, в каком другом месте ему, после такого вечера, так посочувствуют утром и так о нем позаботятся?
В конце такой поездки, потерявший ощущение не только времени суток, но и времени вообще, заваленный подарками и визитными карточками, забывший, как достают из кармана кошелек и как платят… Он будет ехать в аэропорт и смутно догадываться, что то, для чего он приезжал, его лекция, его какая-нибудь программа, схема или предложение, все это как-то совсем не имеет смысла и неприложимо к той земле, куда он прилетел и откуда вскоре улетит.
Он улетит, его проводят…
– И чё прилетал? – скажет кто-то из проводивших его.
– Ага! Ты понял? Я не понял, – ответит другой. – Но парень хороший, да?! Такой оказался простой.
В следующий раз он прилетит уже в нормальной своей одежде, без фотоаппарата, со знанием того, что ему надо и с определенными желаниями. А там у себя на Родине он о своих открытиях и удивлениях рассказывать не станет. Он подумает-подумает, чего бы рассказать про Сибирь, да и расскажет про снега, морозы, водку и икру, да еще и приврет зачем-то. Хотя обычно никогда не врал.
А если где-нибудь в московском аэропорту встретятся, возвращаясь домой, два соплеменника, например, два голландца или датчанина, разговорятся по появившейся в России привычке поговорить…
– А извините за любопытство, у вас дела были в Москве? – спросит один.
– О нет! Очень далеко! В Сибири! Я только пролетом в Москве, – ответит другой.
– Как интересно! И где же в Сибири? Я тоже только что из Сибири, я там был с одной комиссией.
– Да-а?! Я был в Новосибирске.
– А я в Красноярске, точнее, километрах в ста от Красноярска, там…
– Надо же! Мы были совсем недалеко! А где живете?
– Я? Недалеко от Роттердама.
– М-м-м, а я в Гааге.
– Не близко…
Вот так люди из крохотной страны, привыкшие к тому, что через каждые три километра новая деревня, а через каждые десять километров город. Вот так, оказавшись в Сибири, вдруг ощутили не просторы, не дали, а отсутствие таковых. Они моментально научились не чувствовать и не видеть бесчисленные километры, не думать о реальных размерах такой, может быть не самой удобной для жизни, и не самой красивой в мире, земли под названием Сибирь. Они даже не поняли, что с ними произошло! Потому что их домашние километры для них остались прежними, они не стали меньше и игрушечнее по сравнению с размерами посещенной ими земли.
Но когда этот голландец или датчанин будет показывать на карте своим друзьям сибирский город, в котором он побывал, и все будут шумно удивляться и восхищаться тому огромному расстоянию, которое преодолел их друг…
– Красноярск? – медленно и коряво прочтет кто-нибудь. – О-ля-ля! Сибирь!
Вернувшийся из Сибири будет доволен. Он покажет, как «там» пьют водку, скажет про снег… Он не расскажет, что эти страшные, невероятные расстояния на самом деле только три часа самолетом до Москвы, и четыре с небольшим часа от Москвы до… например, Красноярска. Он не скажет! Он уже приобщен. Он не сможет объяснить, потому что сам не понял, а только ощутил… Не сможет объяснить чем, почему, и как голландские километры длиннее сибирских, а точнее, почему они вообще другие. Ну, то есть, совершенно другие…
Но при этом ему было там легко и весело…
Там, в Сибири, которая таким широким мазком намазана на поверхность планеты.
* * *Мой дед никогда не бывал за границей. Он даже во время войны не успел освободить Польшу, взять Кенигсберг или Берлин. Его сильно ранило, точнее, просто искалечило тогда, когда наши войска только-только стали наступать. Он воевал два года, а потом долго лежал по госпиталям. Он защищал Москву, которую совсем не знал, и побывал-то в ней только в госпитале, да проездом. А за границей он вообще ни разу не был. Интересно, его это огорчало, беспокоило, хотелось ли ему туда? А если хотелось, то чего ему могло хотеться от заграницы?
А чего мне хотелось от того, что находится за пределами моей страны. Чего я ждал за этими пределами до того, как в первый раз эти пределы пересек. Я хотел… Нет! Это довольно длинный и подробный список…
* * *Проще все-таки назвать то, что я ощущал, как желаемое, важное, и даже необходимое здесь. Здесь! Из чего складывалось понятное и жизненное ощущение моей страны?… Из чего складывалась страна?
Понятное дело – из того, что меня окружало. И то, что меня окружало, сначала не вызывало никаких сомнений. Хотя я могу говорить только о том, что помню и с того момента, с которого что-то стал помнить.
А что меня окружало? Самое необходимое! Мама, папа, потом бабушка, потом – наше жилье, двор, дедушка, детский сад, воспитательницы (одна хорошая, другая плохая)… какие-то родственники, и другие жизненные детали. Из этого состояла страна. Мы жили в квартире на каком-то этаже пятиэтажного обычного дома. Но когда я рисовал наш дом, я рисовал такой домик… Как дети рисуют домик: квадратик, сверху треугольник крыши, окно посередине домика, и даже крестик в окне, то есть рама. На крыше обязательно труба, из трубы всегда шел кудрявый, похожий на пружину дым. Низ листа я долго и упорно закрашивал черным, поверх черной полосы так же долго красил зеленую полосу – это были земля и трава. Верхний край листа закрашивался синим – это, понятное дело, небо, и в углу листа помещалось улыбающееся солнце с лучами. Возле дома я рисовал маму, папу, себя, бабушку, дедушку и дерево. А еще собачью конуру, почти так же, как домик, только с круглым окном и без трубы. А потом просил нарисовать собаку, потому что собака, как мне казалось, получалась у меня не похоже. Интересно, главное, родители получались похоже, а собака, которой у нас и в помине не было – непохоже.
И еще, почему я рисовал такой домик, а не пятиэтажку? Я в деревне не жил, печку не топил, ни у одного из ближайших домов на крыше труб не было. Из заводских труб, которые было видно из нашего окна, дым шел, да еще как! Но я же рисовал не завод. Я наш дом рисовал. И я же не ленился рисовать пятиэтажный дом. Я землю и траву рисовал дольше, чем все остальное, ломались карандаши, мне было не очень весело красить черную и зеленую полосы, но я трудился. Почему тогда домик был маленький и какой-то деревенский. Откуда это взялось.
Откуда взялось то, что те денежки, которые мне давали взрослые или которые я находил на улице, были для меня не просто так, железячки или бумажки. И если игрушки можно было разбросать и оставить валяться, или дать кому-то поиграть, то откуда я знал, что с денежками так поступать не надо. Сами монетки не казались мне красивыми или некрасивыми, и я не любил и не нелюбил те денежки, которые были у меня в копилке. Я к ним относился как к деньгам. Сразу. А бумажные деньги были взрослыми деньгами, то есть большими, и я знал, что это серьезный предмет. По сути своей серьезный. Но и со своими медяками я тоже не шутил.