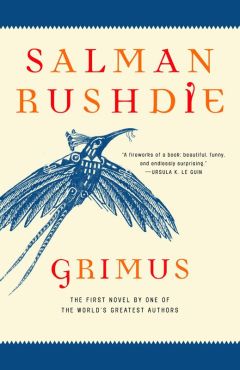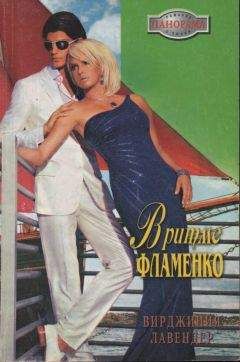Салман Рушди - Дети полуночи
И вот что сказал Картинка: «Признайся, капитан, что победа за мной, иначе велю, чтобы она укусила».
То был конец состязания. Униженный принц оставил Клуб, позже сообщили, что он застрелился в такси. А на поле своей последней великой битвы Картинка-Сингх пал, как подрубленный баньян… слепые девушки (одной из которых я поручил Адама) помогли мне унести его прочь.
Но «Полуночные Дерзания» приберегли для меня кое-что еще. Единожды за ночь – просто чтобы придать развлечениям побольше остроты – блуждающий луч прожектора выхватывал из тьмы одну из беззаконных парочек и выставлял ее на обозрение всех прочих гостей: попадание в луч русской рулетки, несомненно, щекотало нервы молодым космополитам города… и на кого же пал жребий в эту ночь? Кто, с рожками на лбу, рябой от родимых пятен, нос-огурцом, оказался залит этим скандальным светом? Кто, ослепший, как и его помощницы, от подглядевшего постыдную тайну электрического луча, едва не выпустил ноги своего потерявшего сознание товарища?
Вернувшись в родной город, Салем стоял, ярко освещенный, в центре подвала, а бомбейцы хихикали над ним из темноты.
Быстро-быстро, ибо мы уже подошли к концу событий, я сообщаю, что в задней комнате, где разрешалось включать свет, Картинка-Сингх пришел в себя после обморока; и пока Адам крепко спал, одна из слепых официанток принесла нам праздничный, придающий силы ужин. На деревянном блюде, знаменующем победу: самосы, пакоры, рис, дал, пури – и зеленое чатни. Да, маленькая алюминиевая мисочка чатни, зеленого, Боже мой, зеленого, как кузнечики… Недолго думая, я схватил пури, а сверху положил чатни, а потом откусил кусочек – и едва не лишился чувств, подобно Картинке-Сингху, ибо вернулся в тот день, когда вышел девятипалым из больницы и отправился в изгнание, в дом Ханифа Азиза, где меня угостили лучшим в мире чатни… вкус этого чатни был не просто отголоском того давнего вкуса – это он и был, тот прежний вкус, тот же самый, способный вернуть прошлое, будто бы оно никуда и не уходило… Охваченный радостным возбуждением, я схватил слепую официантку за руку и выпалил, не в силах сдержать свой порыв: «Это чатни! Кто готовил его?» Я, наверное, закричал во весь голос, потому что Картинка-Сингх одернул меня: «Тише, капитан, разбудишь ребенка… да и в чем дело-то? Вид у тебя такой, будто тебе явился призрак злейшего врага!» А слепая официантка добавила с некоторым холодком: «Вам что, не нравится?» Я вынужден был обуздать рвущийся наружу вопль. «Нравится, – произнес я, замкнув свой голос в железную клетку, – нравится, только скажите мне: откуда вы его взяли?» И она, встревоженная, желая как можно скорее уйти: «Это „Маринады Браганца“, лучшая фабрика в Бомбее, ее всякий знает».
Я попросил ее принести банку; и там, на этикетке, был обозначен адрес: координаты здания с мигающей, шафраново-зеленой богиней над воротами фабрики, на которую взирает неоновая Мумбадеви, мимо которой проносятся, желтея-коричневея, пригородные электрички – «Маринады Браганца (Прайвет) Лимитед», на разросшейся северной окраине города.
Снова абракадабра, снова сезам-откройся: адрес, напечатанный на банке с чатни, открыл мне последнюю дверь в моей жизни… я преисполнился непреклонной решимости выследить того, кто изготовил это невероятное, возрождающее память чатни, и сказал: «Картинка-джи, мне надо идти…»
Я не знаю, чем закончилась история Картинки-Сингха; он отказался сопровождать меня в моих поисках, и по глазам его я увидел, что от усилий, затраченных в этой последней схватке, что-то в нем надломилось, что победа его была, в сущности, поражением; но остался ли он в Бомбее (может быть, работать на господина Шроффа) или вернулся к своей прачке, жив ли он еще или нет, я сказать не могу… «Как же я оставлю тебя?» – вскричал я в отчаянии, но он ответил: «Не дури, капитан: если ты должен что-то сделать, иди и делай. Иди, иди, что мне до тебя? Говорила же тебе старуха Решам: уходи быстрее, уходи-уходи!»
Я забрал Адама и ушел.
Конец пути: выбравшись из нижнего мира слепых официанток, я пошел пешком на север-на север-на север, неся сына на руках; и пришел наконец туда, где ящерицы заглатывают мух, и пузырятся котлы, и женщины с могучими руками перебрасываются непристойными шуточками; в мир надзирательниц с губами, вытянутыми в ниточку, и конусами грудей; вездесущего звяканья банок, что доносится из упаковочного цеха… и кто, когда я добрался до цели, вырос передо мной, уперев руки в бока, с волосками на предплечьях, блестящими от пота? Кто, как всегда, прямо и без околичностей, спросил: «Вам, господин, чего надо?»
– Я! – вопит Падма, которую это воспоминание взволновало и немного смутило. – Конечно: кто же еще? Я-я-я!
– Добрый день, Бегам, – проговорил я. (Падма вставляет свое слово: «О да, ты – всегда вежливый, и все такое!» – Добрый день, могу я поговорить с управляющей?
О хмурая, стоящая на страже, непреклонная Падма!
– Нет, нельзя; управляющая бегам занята. Нужно, чтобы вам назначили, тогда и приходите, а сейчас, пожалуйста, идите прочь.
Послушайте: я бы не ушел, я бы стал уговаривать, возмущаться, даже, может быть, схватился бы с Падмой врукопашную; но тут с железного мостика раздается крик – с того мостика, Падма, что ведет из конторы! – и с этого мостика кто-то, кого я до сих пор не хотел называть, смотрит на улицу, поверх гигантских котлов с маринадами и кипящими чатни – кто-то стремглав спускается, грохоча по железным ступенькам, крича во весь голос:
– О Боже мой, Боже мой, о, Иисусе, сладчайший Иисусе: баба?, сыночек, вы только посмотрите, кто пришел, арре баба, разве ты меня не узнаешь, смотри, как ты исхудал, иди же, иди сюда, дай я тебя поцелую, дай накормлю тебя пирожным!
Как я и предполагал, управляющая бегам «Маринадов Браганца (Прайвет) Лимитейтед», хоть она и называла себя госпожой Браганца, была не кто иная, как моя прежняя няня, преступница той далекой полуночи, мисс Мари Перейра, единственная мать, которая осталась у меня в этом мире.
Полночь, или около того. Человек, несущий сложенный (и совершенно целый) черный зонт, идет к моему окну от железнодорожных путей, останавливается, приседает на корточки, срет. Потом видит мой освещенный силуэт и, вместо того чтобы оскорбиться тем, что я подглядываю, окликает: «Смотри! – и продолжает исторгать из себя самую длинную какашку из всех виденных мною. – Пятнадцать дюймов! – возглашает он. – А у тебя какой длины получаются?» В другое время, когда я был более энергичным, я бы непременно выпытал историю его жизни; этот час, этот зонт у него в руках оказались бы тем сцеплением, какового было бы достаточно, чтобы вплести его в мою историю, и, без сомнения, я в конце концов доказал бы, насколько необходим этот человек любому, кто хотел бы понять мою жизнь и нашу смутную годину; но нынче я развинчен, обесточен, и мне осталось написать только эпитафии. И я машу рукой сруну-чемпиону, отвечаю ему: «Семь дюймов в удачный день», – и забываю о нем.