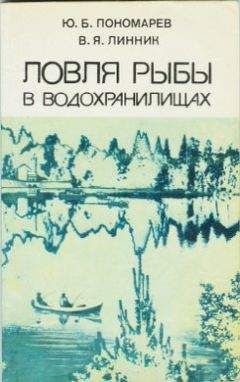Лоуренс Норфолк - Носорог для Папы Римского
— Теперь смотрите, — говорит он.
Он все еще беспокоится, не следовало ли ему сказать: «Теперь смотрите, ваше святейшество», когда нечто похожее на струю чернил со скоростью ракеты проносится по полу и просто вычеркивает рыбью голову из бытия.
— Вот так, — говорит Нерони, — ваше святейшество.
Лев смотрит на него пустым взглядом.
— Это был кот, — говорит он.
— Кота они съели, — говорит Нерони. — Бедного старого Здоровяка. — Несколько мгновений он выглядит как человек, убитый горем. — Моццо! — ревет он. — Принеси мне корзину с крысами!
Вскоре появляется пухлый служитель, напрягающийся под тяжестью двуручной корзины, которая намного шире его самого и которую он ставит у них перед ногами.
— Это только за сегодняшнее утро, — говорит Нерони. — Вытащи какую-нибудь получше, Моццо.
Корзина полна поросших черным волосом тел. Моццо роется среди них и поднимается, держа за хвост крысиный труп. Тот покачивается перед Папой, который видит крысиное брюхо — скопище открытых язв и струпьев. Из носа постоянно капает зеленая жидкость. По осторожной оценке Льва, крыса эта дюймов двадцати в длину.
— Это одна из тех, что поменьше, — говорит Нерони.
Кто-то другой начинает шептать ему на ухо:
Все вспоминают епископа Рима:
В собственном доме он сгинул незримо…
Рима? Незримо? Это неплохо рифмуется… Хуже того, это неплохо декламируется. Он в панике оборачивается, но вместо ожидаемой фигуры в черном с прижатой к груди правой рукой (чтобы удержать в ней сердце) и с протянутой левой (чтобы заграбастать денег) ему предстает скромное подобие Биббьены, увенчанное знакомой головой: Довицио.
— Наконец-то нашел вас! — восклицает Довицио. — Какой же вы неуловимый Папа!
— Кто, я? — спрашивает он, глуповато улыбаясь.
С облегчением.
— Да, в самом деле, но теперь я вас выследил. Собственно, сегодня мне удалось выследить вас дважды…
От Довицио пока невозможно добиться того, чтобы он пояснил свое таинственное заявление. Вместо этого он сообщает, что Зверь, вероятно, вошел в город через ворота дель Пополо часа три-четыре назад («Да-да, Россерус…»), каким-то образом пройдя незамеченным под носом у папской, испанской и португальской «приветственных партий», составленных из мелких чиновников и головорезов.
Снаружи яркий дневной свет понемногу тускнеет в сгущающейся синеве. Уровень воды во дворе Бельведера поднимается на один дюйм в час в тщетной погоне за солнцем, которое скрывается за ярусами скамеек на западной стороне. Монахи выжимают промокшие рясы. Дневные занятия прекращаются, собираются документы. Дворцовые секретари представляют свои бумаги в канцелярию кардинала; аббревиаторы и протонотарии запечатывают их «перстнем рыбака». Это примерно тот час дня, когда брекчированные мраморы — тракканьина, кораллино, самесанто — выглядят наилучшим образом, когда их сталагмитовые завитки и слоистые прожилки словно изливают немного животворящего тепла в прохладные помещения, где сейчас зажигаются свечи и служится вечерня. Папа разглядывает своих кардиналов через импровизированный веер из перьев ржанки. Он пробует перепелиное яйцо, Довицио обнюхивает тарелку с паштетом, а Биббьена лезет рукой в темно-красную кабанью тушу, наполовину выпотрошенную, и раскачивает непропеченные потроха наподобие языка большого мясного колокола. Все они коренасты и увесисты — трое безбородых олимпийцев, развлекающихся среди кухонного убожества. После того как произойдет битва и кто-то одержит победу, состоится банкет в честь победителя, а потому снующие вокруг них кондитеры заняты выделкой рожков, которые будут наполнены разнообразными сластями, подручные поваров сворачивают ломти ветчины, которые составят хобот Ганнона, и спорят о том, что больше похоже на его уши — листья капусты или же филе ската. По всем кухонным помещениям соперники с рогом и хоботом лицезрят друг друга в обличье преображенной домашней птицы, измененных до неузнаваемости молочных поросят, изящных скульптур из масла и подносов с выпуклыми меренгами. Все Ганноны более или менее одинаковы — хобот, клыки, огромные отвислые уши, — но их противник стал жертвой препирательств между кулинарами относительно того, как должен выглядеть Зверь. Больше всего сторонников у Свиньи с Дополнениями, но поддержку находят также и Очень Большая Мышь, и Укороченная Спереди Ломовая Лошадь, и Бык с Переделанной Головой. Остальные походят на жертв пьяного хирурга. Здесь, внизу, тоже поработал Россерус, как и всюду, где отсутствие непреложной истины требует ответов, которых не могут или не желают предоставить обычные источники. Облака пара и дыма, крики, стук, беготня: из этого хаоса регулярно, три раза в день, поступает корм для шести сотен человек, но даже Dauer im Wechsel[68], свойственная кухням, не может продолжаться вечно. Эти халтурные звериные блюда указывают на провалы более глубокие, на некий нераспознанный недуг, который теперь, возможно, слишком поздно лечить, на трещину, уже проходящую через центр земли…
— Ням-ням, — говорит Биббьена, набирая третью пригоршню маленьких сластей, покрытых глазурью.
— Мм-хм.
Довицио поглощает дыню.
Троица покидает кухни в приподнятом расположении духа, едва ли не в забытье. Лев выступает в роли туго натянутой струны между своими кардиналами, мурлыча мелодию, которую на прошлой неделе Джан Мария сочинил для его любимой присказки, Il grasso porco di cattivo umore[69], которую все повторяют применительно к нему. Любимая его строфа — это та, в которой ловкий либреттист находит пять точных рифм для слова occhiata[70], которое выламывается из размера. Лев ценит изящество. Они втроем шагают бок о бок по коридорам, занятым биваками, и Лев вполне доволен тем, что идет в центре, над канавкой, из-за чего вынужден широко расставлять ноги, меж тем как его спутники грубовато-добродушно разглагольствуют о завтрашнем ожидаемом изобилии. Выясняется, что Довицио раздобыл гондолы, которые Лев так хотел использовать для своих соперничающих флотов, и на них прямо сейчас наносят герб Медичи — шесть шаров. Что еще более важно, ему удалось заручиться услугами «Царя Каспара и мавританцев», ансамбля, состоящего из лютни, волынки, нескольких альтов и цимбал, известного мягким исполнением и плавным диминуэндо в диапазоне от тоскливого до заупокойного. Ожидается, что они прибудут завтра, ближе к вечеру. Теперь троица бок о бок поднимается по лестнице в вестибюль, соединенный с часовней Сан-Никколо, где Лев с радостью отмечает отсутствие попрошайничающих поэтов — прежде стихотворцы там так и кишели. Отлучились на обед, предполагает он. У Довицио для Льва припасен сюрприз, и тот пытается вовлечь его в игру — заставить угадать, что это такое.
— Ты написал пьесу, чтобы сыграть ее завтра, в которой я буду изображать своего давнего тезку, Льва Первого, а дофин Франции исполнит роль Аттилы. Я останавливаю его наступление у Минчо, после чего триумфально возвращаюсь в Рим, где меня обожают вплоть до смерти, — сцена ее трогательна, но свободна от сентиментальности. Мой уход на небеса сопровождается мелодичной заупокойной песнью, исполняемой на барабанах из козьих шкур, — наудачу говорит Лев.
Он бренчит и тренькает между ними, его жалобный дискант поднимается, а затем понижается, когда Довицио сообщает ему, что догадка его неверна и что дофина Франции, насколько ему известно, пока вообще нет на свете.
— Я недавно делал вам намек, ваше святейшество. Помните? Сегодня я отыскивал вас дважды…
Невразумительное, но радостное подшучивание. Они несколько раз сворачивают за угол, шествуют по коридорам. Чиновники низко к кланяются, затем вжимаются в стены, а стюарды, обремененные супницами, мелкими шажками пятятся назад. Обеденный шум в столовой зале — это приглушенный рев, отдаленный лязг, звуки, производимые варварами в военном лагере. Поэтов не видно, ни единого. Пересказывая самый изысканный из последних пасквилей на несчастного кардинала Армеллини, Биббьена опрокидывает карлика.
Довицио перемежает тему своего компаньона направляющими толчками и тычками — «Пойдем здесь», «Налево», «Теперь сюда», — это как разделенный на части антифон, который катит их вперед и в стороны, то вверх, то вниз, меж тем как Лев кивает набитой счастливым смехом головой, хихикает и недоумевает, где это он. Они идут, кажется, довольно долго. Раньше ему и в голову не приходило, что его дворец настолько огромен. Кардиналы обмениваются своими мотивчиками по гудящему шнуру, соединяющему их между собой. Лев Вибрато. Затем огромные черные пальцы подтягивают колки. Лев чувствует, что сквозь его сверкающие внутренности и голубоватые просвечивающие сосуды продет толстый волосяной канат, который подрагивает в такт ударам смычка по лакированному грифу скрипки величиной с дерево: его святейшество с Натянутыми Нервами. Теперь это будет мученической смертью, страшной, как у Эразма, музыкальной, как свадебная песнь Цецилии с ее потаенными пронзительными вскриками и исполненными боли воплями, ором мучеников, рождающих святых. Такая изуверская музыка, причем странно знакомая. И где только он слышал раньше эту песнь, спетую под аккомпанемент лязганья клещей в жаровнях, скрежета пил по костям, монотонного шуршания, подобного разрыванию сухой ткани?.. А!