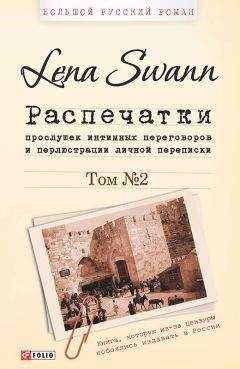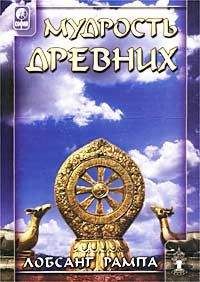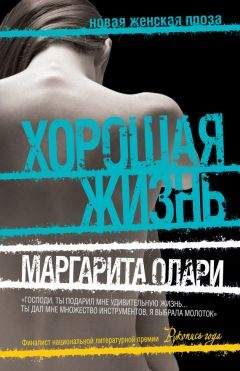Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1
Через долю секунды, без всякой заминки поиска, он извлек из богатой подкроватной библиотеки нужный белый ардисовский томик с синеватыми литерами и грамотным крылатым львом, в мягком (а честнее сказать — измятом, зачитанном чуть не до промокашечного состояния желтеющихся, как будто с подпалиной, углов) переплете, и, вмиг (так же — без всякого зазора поиска, даже не глядя) найдя нужную страницу на ощупь, пальцами, по какому-то узнаваемо-аутентичному неповторимому штруделевидному зачиту угла листа (Елена моментально вспомнила собственный томик брюссельского Евангелия — подподушечную книжечку, вот так же, после всего-то нескольких месяцев чтения, уже перенявшую ее мимику, и с радостью, родственно, загибающую ей уже при встрече, для пожатия, свои, евангельские пальчики тоненьких уголков любимых листиков) — принялся все так же завывно, нараспев, но очень тихо и глухо, и не очень внятно (явно торопясь догнать текст до единого смыслового образа, в мозгу-то его уже вечно существующего) зачитывать (даже не глядя в лист, из памяти, яростно смотря на Елену, непонятно для чего вообще книжку перед собой держа) необходимый стих — так что Елена угадывала слова скорее только по собственным воспоминаниям образов, которые Темплеров неразборчивыми земными звуками воскрешал.
Расслабленно прицелившись, Елена швырнула Чернецовскую мыльницу — катапультой болтающейся вслед вагонной качке руки — вниз, на противоположную нижнюю полку — мыльница шваркнула краем по дерматиновой обивке лежака — жихнула с грохотом на пол — и раскатилась, раскрывшись на половинки — как недоеденное панковское блюдо в уродской креманке — и Елена с внутренним смехом подумала про несуразного Чернецова, что ведь даже вещи человека ведут себя в его стиле.
Второй уже раз в темном купе ей показалось, что с соседней верхней полки раздаются какие-то подозрительные звуки — будто кто-то там возится! — хотя точно знала, что выставила за порог всю ораву, в другое купе — и возвела карантин защелкой — как только в гости без спросу приплелись Лаугард да Гюрджян с Руковой и Добровольской, да начали (совратив Дьюрьку и Аню) с визгами, не давая ни читать, ни думать — шумно играть в «картишки» — в дурачка да в Акулину.
Поезд прокатил, не останавливаясь (а только резко затормозив, дав очень тихий ход) какую-то станцию — с многоэтажным пристанционным зданием, залитым, почему-то, в поздний час, ярким электрическим светом — и по полу, по стенам черного купе медленно провезли косую ассиметричную светлую шотландку — посекундно отчикивая кусманы отреза ножницами противоположной стены.
Мать Темплерова, с сухопарой осанистой грациозностью вносящая для него еду на широкой тарелке — и — с любезной уже, но крайне быстротечной улыбкой ставящая для нее на край письменного стола стакан чаю, — все-таки живо шествовала сейчас мимо внутреннего взгляда Елены гораздо ярче, чем внешнее кино.
Сам же Темплеров, без всякой позы, по-солдатски просто, вдруг навытяжку встал рядом со столом и сотворил крест, как будто даже и не замечая присутствия Елены, глядя прямо перед собой:
— Отче наш, Иже еси на небесех… — кратко, невнятно, из-за чудовищно быстрой, и заваливающеся-плывущей, дикции, — но все-таки так благословенно, на самом понятном в мире языке, принялся читать молитву Темплеров.
И Елена вдруг впервые с того момента, как переступила порог этого напугавшего ее поначалу человека, с дрогнувшим сердцем, оценила Божий этот дар — этого странного нового друга — неотмирного — до высот подвига которого даже и в самых благодатных молитвах долететь было невозможно — а вот вдруг раскрывшего для нее двери своего дома. И в этой молитве Темплерова было уже всё — и пять лет карцера, и тупая власть, пытавшаяся Темплерова сломать, и его твердая вера — прямая Божья поддержка в страшных испытаниях — и личные Божьи ответы и заветы — и ответные благодарные обещания Темплерова — о высотах которых можно было только с внутренними слезами догадываться. Но одно из обещаний — и его исполнение — было очевидно: вот так вот, просто, по-солдатски — встать, перед едой — и кто бы и что бы ни были рядом, вокруг, во внешней жизни — невзирая ни на что — вслух, не таясь, восславить Господа — и прочитать единственную молитву, данную нам лично самим Спасителем.
Вернувшись домой, Елена не могла заснуть всю ночь: как странно, как чудесно, что молиться перед едой, благодарить Бога за еду, научил меня даже не священник, меня крестивший — а вот этот тюремный монах, воин Христов, отчаянный бесстрашный антисоветчик, чуть не убитый кагэбэшниками, чуть не заморенный в лагере голодом! И как-то сразу пришло на сердце радостное — но и страшное — окончательное осознание того, что христианство — это вовсе не мление от внешних ритуалов, и не женские хороводы вокруг хорошенького жеманно-остроумного батюшки — и не тепличное массовое копирование приниженных «воцерковленных» походочек сгорбленных подбитых перепелочек, и не карнавал древнерусского стиля одежд, не красивенькая аккуратненькая картинка, — а христианство — это кровь и муки Христа, кровь и муки и позор и нищета и лишения мучеников Христовых, свидетелей веры. И что только благодаря им мы всё еще живы — и гнев Господень не уничтожил землю, погрязшую во зле. И уж кто-кто, как не Темплеров, с которого в тюрьме при аресте надзиратели первым делом сорвали нательный крест (заявив, что это — «холодное оружие». «Оружие-то может оно и оружие — вы правы — но только не холодное уж точно», — снисходительно веселился арестант Темплеров с неуловимой для тюремщиков душой), у которого кагэбэшники отобрали Библию, и который в знак протеста объявил (в голодной-то зоне) голодовку и отказался выполнять любые лагерные распорядки, пока не вернут Божью Книгу — и за это безвылазно гнил в ледяном карцере, на полу, без единой теплой вещи, без одеяла, без подстилки, даже без нар бо́льшую часть времени, на убийственной пайке хлеба — кто, как не Темплеров, в голых тюремных стенах, в пыточных условиях, лишенный любых внешних атрибутов христианства, знал на собственном опыте, что значит Христова заповедь: поклоняться Богу «не здесь и не там — а в духе и истине»!
И умильные омилии батюшки Антония в единый миг оказались вдруг в сердце Елены уравновешенными — словно два крыла, вместо одного, появились, на которых лететь — этим подвигом воина Христова — лагерного доходяги.
И только немножко жаль было, что в том, что касалось цели ее прихода к Темплерову, обошлись с ней немного как с ребенком: на просьбу Елены доверить ей, на обратном пути из Западной Германии, перевезти для его антисоветской организации через границу каких-нибудь книг, Темплеров с протяжной рассудительностью в голосе ответил:
— Спасибо вам, Лена. Ну что вы… Вы же — юная девушка, совершенно незачем вам тяжести носить… Мне вовсе не хочется вас этим утруждать — для этого есть спецьяльные люди… — (и словцо это, «специальные», Темплеров произнес с ярко-старомодной окраской: спець-яльные) —…И, как раз, по случайному совпадению, один из таких спецьяльных людей довольно скоро приедет оттуда в Москву… — добавил Темплеров, ей прямо в глаза, чуть раскачиваясь, глядя. — А вот вы лучше запишите себе номер телефона во Франкфурте… — (Темплеров пододвинул к себе листочек бумажки — и, аккуратно, по сгибу, оторвав восьмушку, на вытянутом лепестке капиллярным фломастером начал кропать циферки — явно укрощая свой мелкий почерк до человечески-разборчивого воплощения) —…позвоните оттуда, из Германии, спро́сите Глеба, у них есть каталог, они вам прочтут по телефону, вы выберете, что бы вам лично хотелось почитать — потом, по возвращении, скажите мне, и вам это всё привезут! — (У Елены аж мурашки пошли по коже — от таких волшебных, всеобъемлющих, вселенских библиотечных возможностей). — А если вам будет любопытно, — умиротворительно продолжал Темплеров, — дык заезжайте к ним во Франкфурт в гости… Выберите сами лично для себя книг, какие вам понравятся — просто для вашего личного пользования… Мы ведь, в огромной мере — организация просветительская… А то — так приходите запросто за книгами в гости по возвращении — если заехать к ним не удастся: Мюнхен ведь от Франкфурта далеко довольно…
Хоть и чувствовала Елена, что Темплеров (не исключено, что с Крутаковской подачи) подстраховал ее от возможных проблем на границе, как только мог — но поспорить с этим было… Да как тут поспоришь? А чудесный, длиннющий западно-германский номер, на длиннющем же белом лепестке, был упрятан ею, с — тем не менее — чудеснейшим чувством, в карман джинсов.
Утром, за завтраком, Елена, по-Темплеровски выпрямившись, встала возле их с Анастасией Савельевной красного раскладного столика и, с особенной бережностью перекрестившись, вслух прочитала «Отче наш». Анастасию Савельевну чуть кондратий не хватил: