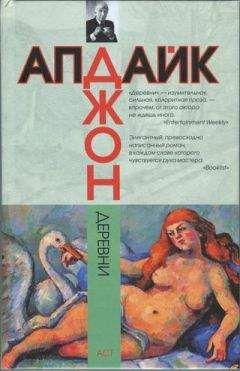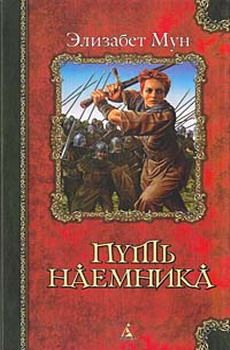Герман Кант - Актовый зал. Выходные данные
Такова графиня, а вот я сам: согласен, теория графини обладает известной привлекательностью, не спорю, отдельные места в ее писании отличались благозвучием. Я бы даже сказал, нет, я обязан сказать: они мне льстили. Видимо, мои ощущения напоминали ощущения Василия Васильевича Спиридонова: он с глазу на глаз с Мольтке, легендарным гением.
Глупо не допускать мысли, что человек, получивший мощную затрещину, не испытает на какой-то миг удовлетворения, когда услышит от давнего и мощного обидчика: да мы ж с тобой равны. Ведь тот не сказал бы так, не будь он, по крайней мере на данный миг, побежден. Я с улыбкой отвел графскую руку с моей шеи, вспомнив о пальцах, некогда железной хваткой снимавших мне горло, и с легкой иронией заметил: времена-де меняются, хотя тут же понял, что ироническая легкость тона, пожалуй, годится лишь для равных, а таковыми я нас, графиню и себя, не считал, что и высказал ей; я сказал:
— Как бы нам с вами не ошибиться, а ведь мы непременно ошибемся, если, видя лишь общие благодаря природе и истории черты, упустим два-три обстоятельства, нас разъединяющие. Наша общность смахивает на общность Германа А. и Германа А.{205} Оба не только зовутся Германами, и не только Германами А., оба приговорены были к длительным срокам тюремного заключения, что, надо думать, оба считали величайшей несправедливостью, оба — и тут возникает самый серьезный знак равенства между ними, — оба, возглавляя предприятия, сидели в одном и том же доме, сто восемь, Берлин, Мауерштрассе, тридцать девять, и даже в одной и той же комнате, северный корпус, второй этаж; один Герман — в качестве члена правления «Дойче банк», второй Герман — в качестве главного редактора «Нойес Дойчланд», два Германа, два немца, но общего между ними не больше, чем между вами, фрау доктор, и мной.
Нет, нет, пожалуйста, не возмущайтесь преждевременно, я не путаю вас с первым А., а себя со вторым; не я выдумал эту игру, я хочу только додумать ее до конца; а потому предлагаю, давайте подвергнем испытанию нашу прекрасную общность, для чего оставим прошлое, и проверим ее на оселке настоящего. Ведь это игра, графиня, давайте все вместе, все участники игры, — вы и первый господин А., второй Герман А. и я — отправимся в комнату северного корпуса на втором этаже по Мауерштрассе, дом тридцать девять, сто восемь, Берлин, и выглянем из окна; в восточном направлении мы увидим Министерство внутренних дел Германской Демократической Республики, в северном направлении — заднюю стену советского посольства и часть здания Министерства народного образования, в северо-западном направлении — Бранденбургские ворота и на западе, наконец, пограничное укрепление, кое-кем именуемое «стеной».
Оглядев все это, давайте сядем, немцы Лендорфф и А., А. и Грот, и запишем все, что придет нам в голову после такого обозрения, запишем все, что вспомним, запишем, что нам по вкусу пришлось и почему, а что нам не пришлось по вкусу и — в этом случае также — почему, запишем, что мы хотели бы сохранить и зачем, и напишем, что, если бы от нас это зависело, мы изменили бы и для какой цели.
Не стану вам надоедать, не стану доводить игру до момента, когда все четыре сочинения будут зачитаны; я уверен, мы получим не только четыре разные статьи, но такие четыре, из которых можно составить две пары, и подозреваю, ваша и моя не составят пары.
Мы не составим пары, графиня, если взглянем из того окна на небольшую часть окружающего нас мира, нет, мы не составим пары, из какой бы точки мы ни взглянули хоть на весь окружающий нас мир, это различие между нами давнишнее, и оно, видимо, не исчезнет еще очень и очень долго.
Должен признаться, игра с окном, возможно, была чуть-чуть утомительна и даже притянута за волосы; и все-таки иногда она бывает полезна. У меня вошло в привычку приглашать непрошеных или непроверенных друзей — теперь, после случая с графиней, разумеется, мысленно — к окну на Мауерштрассе, и когда речь заходит о точке зрения, я также всегда вижу себя там: мой взгляд обретает тогда особую остроту.
А все благодаря графине, я ей искренне благодарен.
Когда мой первый хозяин в Ратцебурге по причинам, которые он мне открыть не пожелал, уехал на неделю, он сказал:
— Парень, тебе так и так отпуск положен, вот и бери его теперь; можешь, значит, завтра и до следующего понедельника не приходить.
Таков мой первый мастер, а вот я сам: ой, вот радость-то точно с неба свалилась! Ах, какой замечательный денек выдался, ах, какой замечательный у меня мастер! Другой бы, взяв чемодан, надавал мне заданий и оставил в мастерской. Но не мой мастер: у него доброе сердце, мне этого вовек не забыть.
Я тоже отправился путешествовать: привязал рюкзак к велосипеду, и прощай, Ратцебург, привет, Мёльн, алло, Шварценбек, здравствуй, Гамбург! У меня там жили какие-то дальние тетушки и один настоящий дядя, старший брат матери, а самое главное — это был Гамбург, потому визиты родственникам я наносил мимолетные. У одной тетушки, ненастоящей, мне разрешили остановиться; прочих родственников я оделял приветами, позволял их оделять меня бутербродами и тут же улетучивался, едва успев объяснить свое появление и пропеть хвалу своему доброму мастеру.
Добросердечный мастер и хозяин неизменно пожинал восторги моих родичей; и только в одном доме этого не случилось. У моего настоящего дяди. Таков уж он был по натуре. Мама сказала потом:
— Он же слепой, в этом все дело.
Верно, он слепой. Он служил кочегаром на судне — и однажды там лопнуло водомерное стекло.
Он участвовал в битве в Скагерраке, и в Киле когда-то в ноябре{206} тоже в чем-то участвовал, о чем мать вспоминала только шепотом.
Они не находили общего языка, моя мать и ее брат; редкие посещения кончались ссорой, дядя-то был человек неосмотрительный, а отца считал тихоней.
— Он же слепой, в этом все дело, — говорила мать о брате.
Меня он принял приветливо, даже выключил радио, чтобы поговорить; я все равно ничего не понимал, о чем там говорят — по-иностранному и тихо-тихо. Пришлось рассказать ему обо всем, что я повидал в городе, дядя был доволен, и я охотно ему рассказывал.
Я ему рассказал и об отпуске, как неожиданно я получил его и как повезло мне с хозяином.
— Да, — ответил дядя, — дополнительный отпуск всегда кстати. А деньги он тебе заплатил?
— Пять марок за неделю, — гордо заявил я, — так и в договоре значится. Только отпуск этот не дополнительный. Просто мой отпуск, разве нет?
— Ну, не очень-то разбежишься на пять марок, — ответил дядя. — Почему же это твой отпуск? Я думал, ты его с бухты-барахты получил?
— Верно, — кивнул я, — мастер-то все равно уезжал!
От дядиной приветливости не осталось и следа. Он бушевал, обзывал моего мастера собакой и всех мастеров собаками, да еще какими-то чудными — эксплуататорскими собаками! И меня обругал за то, что я молча все стерпел.
Да ведь он слепой, в этом все дело, подумал я, он не видит, а потому кое-что не понимает. И я еще раз объяснил дяде: что значит «стерпел», отпуск неожиданный, и терпеть нечего, я ему рад без памяти, и вообще, как же не терпеть, я — ученик, мой мастер — мастер, хозяин, господин в своей мастерской, мой господин — управляющий предприятием, разве нет?
Ну, тут дядя стал спокойно мне все объяснять, но я видел — наш разговор его волнует, и это заставило меня поверить в те его слова, какие мне удалось понять.
Всего я не понял и вопросов увез с собой больше, чем получил ответов. И ответы и вопросы долго не давали мне покоя, даже когда я опять через Мёльн возвращался в Ратцебург и даже когда снова вернулся в мастерскую моего хозяина.
Он спросил меня, как я провел отпуск, и я ответил, что хорошо провел, а сам подумал: если воображаешь, будто я и сейчас думаю — ой, вот здорово, что ты мне даешь отпуск, когда тебе угодно, а меня даже не спрашиваешь, угодно ли мне, — так нет, не воображай! Я узнал — все, оказывается, было уже иначе, и все еще будет иначе. А еще я узнал, что, хоть и зарабатываю у тебя кое-что, ты без меня вообще ни черта не заработаешь, мне все подсчитали точно. А еще меня научили, чтоб я смотрел на вещи не только с твоей точки зрения, чтоб я поглядел и с моей, а с моей они порой выглядят совсем иначе.
Нет, собакой я своего хозяина даже мысленно не называл, а уж тем более эксплуататорской собакой, но я никогда больше не называл его замечательным хозяином, хотя был он человек неплохой, что подтвердилось, когда умер мой отец.
Замечательный — нет, слишком часто я смотрел теперь на вещи собственными глазами; у меня это, можно сказать, вошло в привычку, мать быстро все подметила, а когда поняла, что моя манера принимать все в штыки — следствие визита к ее озлобленному брату, сказала:
— Он же слепой, в этом все дело!
Но я думал о том иначе.
Когда западноберлинский полицейский арестовал меня за то, что в моих запрещенных листовках речь шла о мирных переговорах, он еще на ступеньках участка сказал мне: