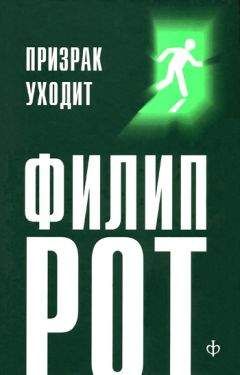Людмила Улицкая - Люди города и предместья (сборник)
Увидев Воробья, Маша кинулась к ней, обхватила руками:
— Воробей, дорогой мой Воробей, как же я тебя ждала! Ты себе не представляешь, как ты мне нужна. Я и сама не представляла…
Они брызнули друг на друга слезами, а потом Воробьева посмотрела в гроб: желтая старушка с маленьким крючковатым носом нисколько не была Сашей… Настоящая Саша называлась теперь Дусей, но лицо имела строже и ростом была выше.
Вышел маленький священник, совсем маленький, лысый и похожий на Николая Чудотворца.
Воробей и Маша стояли обнявшись, слепившись в горести; Элеонора, давно уже предчувствовавшая конец, именно такой — позорный, как она это понимала; Маша, не подготовленная к этому событию, несмотря на все телефонные сухие отчеты матери: «умирает», «погибает», «уходит». Красивая юная Дуся напомнила Жене Сашу как раз в том самом возрасте — ей лет пятнадцать-шестнадцать, и Стасика, и сцену в ванной… И Воробьева остро вдруг почувствовала, как глубоко и по-сестрински привязана она к нелепой Машке, трогательной, всё еще похожей на красивого мальчика, но уже начавшей подсыхать…
В Переделкино гроб несли на руках к могиле многие мужчины, сменяясь. Стоял лютый мороз, они все были без шапок, в банных клубах собственного дыхания.
— Все ее любили, — шепнула Воробьева Маше.
— Я думаю, это половина тех, кто ее любил, — строго ответила Маша.
Маша провела в Москве неделю. Воробьева снова сидела в Элеонориной квартире. Она вернулась туда после стольких лет, как в родной дом. Элеонора поставила перед ней одну из коллекционных чашек, из горки, и вообще была ласкова. Спросила, знает ли она Коварского.
— Я работаю у Коварского-младшего, — ответила Воробьева.
— Говорят, что он не хуже отца, — неуверенно сказала Элеонора.
Воробьева согласилась.
— У внучки моего близкого друга подозревают лейкоз. Можно ли… — начала Элеонора.
— У меня кандидатская была по лейкозу. Это моя специализация, детский лейкоз. Конечно, любая консультация… Если хотите, можно и к Коварскому-старшему…
Маша уехала, и теперь подруги изредка обменивались письмами, какая-то слабая ниточка восстановилась. Жила Маша теперь в Лондоне, в трехэтажной классической квартире, которую купил ей бывший муж в скромном, но неплохом районе. Сам он остался в прежнем, большом доме в Кенсингтоне, принадлежавшем еще его прадеду-юристу. Жизнь Машина после развода пошла под горку: в ней было всё меньше блеска, общения со знаменитостями, разъездов по мировым столицам, презентаций и приемов — всё это, как и старый дом с садом, осталось у Майкла. Зато у Маши была работа — она стала крупным специалистом по рабочему движению, была знатоком троцкизма, принадлежала к левой интеллектуальной среде и даже имела репутацию серьезного эксперта по коммунизму. Она пользовалась некоторым успехом у мужчин своего круга, но внешность ее — мальчишеская стройность, очаровательная угловатость движений, чудесный овал лица и раскосые светлые глаза — скорее подходила тому артистически-художественному кругу, который она покинула, нежели теперешнему. У нее было несколько незначительных романов, которые приносили больше разочарований, чем радостей. Пожалуй, самой лучшей и длительной из всех ее связей была итальянская: на протяжении шести лет она приезжала в один и тот же маленький городок под Неаполем, где к ее услугам была гостиница, зонтик на пляже и маленький ресторанчик вместе с его владельцем, сорокалетним Луиджи, который жил в зимние месяцы, когда бизнес останавливался, в двадцати километрах от моря, в незначительном городке с женой и дочками, а в летнее время ублажал заезжих гостей неаполитанской пиццей. Эти двухнедельные поездки в Италию давали Маше большой заряд здоровья, потому что в Англии ей во всех отношениях не хватало тепла. Потом Луиджи исчез, и когда Маша спросила у нового владельца, куда же он делся, тот развел руками:
— Я купил у него дело, он взял деньги и уехал. Посмотрите, какую террасу я пристроил. Хотите, это будет ваше постоянное место?
Но постоянным местом был Лондон, а в нем накатывала депрессия, особенно весной и осенью. Маша стала чаще наведываться в Москву.
В восемьдесят пятом Элеонора разбила ее сердце — вышла замуж. Это было нелепо, глупо, даже стыдно. Ей было без малого семьдесят, и хотя она всё еще сохраняла стройность и подвижность, была совершенная старуха.
Маша была оскорблена тем, что мать ее ни о чем не предупредила. Когда Маша приехала, Элеонора встретила ее в Шереметьево и рассказала о своем замужестве по дороге домой. Второй удар постиг Машу уже дома: мамин муж занял ее комнату под рабочий кабинет, и Элеонора постелила ей в гостиной. Наутро Маша собрала вещи и съехала к Воробьевой, они с мужем к тому времени родили ребенка и построили кооперативную квартиру.
Десять дней Маша мрачно просидела в Тимирязевке, раза три вышла из дому, почти никому не звонила. Травма была глубочайшая. Пожалуй, только история с Майклом подействовала на нее так сокрушительно.
Элеонора два раза звонила Воробьевой, но Маша увиделась с матерью лишь перед отъездом, на нейтральной территории: в дом, оскверненный непристойным замужеством, Маша не пошла.
Нейтральным местом было кафе в гостинице «Националь». Они сидели за столиком, маленькая прямая Элеонора и сгорбившаяся, потерявшая свою всегдашнюю струну Маша, перед ними стояли две чашки кофе, берлинское печенье и бутылка «Боржоми». Элеонора сказала Маше, что вышла замуж за человека, которого любила много лет, что он овдовел и теперь, впервые в жизни, она живет вместе с мужчиной, которого любит, что она совершенно счастлива, что оба они в таком возрасте, что о долгом счастье речи быть не может, но она дорожит каждым оставшимся днем и ни одного из них не хочет потерять. Она просила прощения, что совершила бестактность, предоставив Юрию Ивановичу ее комнату, что готова просить его временно перебраться со своими занятиями в гостиную, потому что, «как ты сама, Маша, можешь понять, в маленькой, бывшей няниной, она не может поселить бывшего генерала, — Элеонора улыбнулась случайной шутке, — а спальня имеет у нас другое назначение».
В голосе ее звучало женское торжество, как будто этого замшелого генерала она отбила непосредственно у дочери. Маша уловила эту ноту, и особенно намек на его пребывание в спальне.
«Господи, она со мной что, соревнуется?» — думала Маша.
Ей хотелось, как это было принято прежде, в детстве, когда они жили втроем, заорать, завизжать, швырнуть об пол чашку, и будь они дома, может, это бы и произошло, а потом бы они обе рыдали, гладили друга по голове и плакали в глубоком примирении и внутреннем согласии…