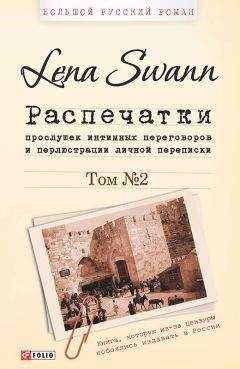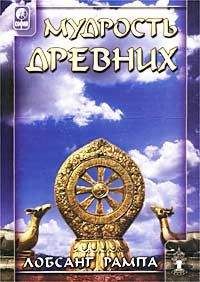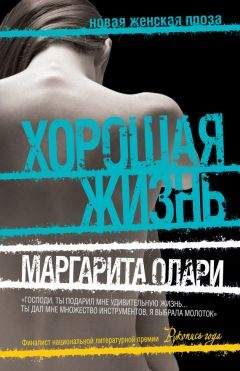Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1
— Не вижу, какое такое могло бы быть… — с сарказмом медленно выговорила Елена —…«ме-ро-приятие», ради которого я бы согласилась расписаться в советском паспорте.
— Ну а ради того, чтобы выехать из страны, ты бы паспорт сделала? — совсем уж приглушив голос, в нос, с восторгом выпалила ей в ухо Анна Павловна.
Елена рассмеялась, считая это какой-то глупой шуткой, то ли провокацией.
И тут Анна Павловна принялась рассказывать сказку.
Сказка заключалась в том, что некий бескорыстный русофил, безвестный знаток русской дореволюционной литературы из Мюнхена, в миру — скромный учитель баварской гимназии, внезапно воспылал жаждой вызволить из-за коррозирующего железного занавеса хотя бы маленькую кучку русских детей — и на свой страх и риск, сразу же после объявления о дыре в берлинской стене, рванул в неизвестную и пугающую Россию. С Россией — кроме классических литературных фантазмов — связей у безвестного русофила не было ну ровным счетом никаких — кроме какой-то когда-то где-то как-то случайно встреченной эмигрантки — двоюродной племянницы знаменитого латышского социал-демократа, убитого Сталиным в тридцатые годы — она-то, семейными байками, и рассказами про репрессии и заразила его интересом к современной истории — и привила крепкую антисоветскую прививку. Добившись — невесть как, дубовой педантичной настойчивостью — в советском министерстве образования списка немецких школ в Москве, русофил обошел каждую — и — по непонятной причине (явно, по недоразумению какому-то) с первого взгляда влюбился в школу именно эту — а скорее всего — не в школу, а в элегантную, маленькую, говорливую Анну Павловну. Уехав немедленно восвояси, скромный учитель мюнхенской гимназии послал личное письмо Горбачеву (заручившись — как тараном против советской бюрократии — воззванием той самой двоюродно-внучатой родственницы знаменитого латышского репрессированного). И — к изумлению всех участников процесса — от растерянности, клешни государства моментально разжались: Горбачев дал личное распоряжение выпустить за границу для ознакомительной поездки в капиталистическую страну всех желающих школьников из указанной «западногерманским товарищем учителем» школы.
— Только умоляю… — страдальчески заныла Анна Павловна, — не болтайте с Дьюрькой об этом нигде пока! Ты же знаешь что везде у стен есть уши… Ты же знаешь, как просто все это у нас сорвать! Иди в паспортный стол потихоньку, сделай срочно паспорт! В МИД надо хоть какой-нибудь документ предъявить!
— А свидетельство о рождении не подойдет? — съязвила Елена.
Анна Павловна — со звуком «у-у-уй!..» — мученически скорчила личико, и, сморщив нос до формата игрушечного, — плюшевой лисички, — убежала в свой кабинет.
И, вот, следующий день был напрочь испорчен чудовищными, беспрецедентными по ругани, перепалками (хотя и тайными, вдали от школы) с Дьюрькой.
— Ты что, охренела?! — орал на нее Дьюрька. — Из-за какой-то бумажки такой шанс упустишь! Мы же вырвемся первыми из-за железного занавеса! Историческая поездка!
— Ага… Ноевы голубки… — мрачно, подытоживала Елена, крайне недовольная предоставившимся выбором.
— Какие голуби?! Ты что мне зубы заговариваешь! А ну пойдем вместе немедленно в милицию!
— Сейчас! Сейчас я прям тебе побежала в милицию! Убери от меня руки немедленно, никуда я не пойду! Умру лучше — чем в серпастом-молоткастом свою подпись поставлю! — отбивалась Елена.
И тут Дьюрька, с его непробиваемой веселостью, вдруг умудрился развернуть всю ситуацию так, что в начале следующей же недели Елена не просто нехотя потащилась, а и вправду, хохоча, побежала в паспортный стол:
— Не хочешь подпись свою ставить? — рассмеялся Дьюрька. — Превосходно! Так поставь чужую подпись тогда!
В выходные оба, хохоча до упаду, придумывали, за какого-то исторического деятеля расписаться. И вот, наконец, Елена сказала: «Всё! Придумала! Не скажу ни за что!»
Как же сложно было опознать себя на крупноформатной черно-белой фотографии для паспорта! Улыбчивая, почти хохочущая, с ямочками на щеках, с градуированным каре — и чуть завитой челкой, и верхними вздыбившимися к лицу прядями.
— Девушка, а посерьезней нельзя было? — безобразно издевательским тоном смазанным каким-то, заспанным голоском начал привередничать на приплюснутый арбуз похожий работник паспортного стола — маленького железнобетонного домика на задворках хрущёб, в лысых, хотя и страшно густых и высоких зарослях кустов неведомо чего — замороженного, растаявшего — и замершего теперь в горьковатом тумане в откровенно пловецких каких-то жестах.
Дьюрька, увязавшийся за ней, прыснул и побордовел, как паспортная обложка.
— Вам когда, девушка, паспорт нужен? — с ленивой издевкой едва поднял виевы веки арбуз: и в мутных глазах его появился какой-то невнятный намек.
— Завтра! — без запинки ответила Елена.
Веки взлетели вверх — арбуз вылупился — и не понимая, подстава это какая-то проверяющая — или несусветная наглость паспортуемой, заверещал:
— Вы сроки наши знаете?
— Не знаю, — честно отрезала Елена.
Арбуз еще раз глянул на нее, на Дьюрьку, испытующе, дугой, посмотрел на их руки — проверяя, видимо, не лезет ли кто из них в карман за взяткой при таких срочных запросах.
Нет, за взяткой никто не лез, и никто ему ничего не предлагал. Остановившись, видимо, в своем нехитром мозговом круговороте на версии: «проверяют», милиционер, надувшись, обиженно сказал:
— Завтра — не получится. Зайдите послезавтра. С утра. Только у нас обед ранний, — опоздаете — пеняйте на себя. Выдача закончится.
И вот настал торжественный момент.
Дьюрька сидел справа от Елены, за тем же облупленным, громадными меблированно-лакированными чешуями изборожденным, темно-коричневым столом, напротив арбуза, и, даже не хихикая, и не краснея, чуть приоткрыв рот от блаженного ожидания цирка, ждал, как она распишется.
Елена еще раз, чуть заметно улыбнувшись, вспомнила, как, года четыре, что ли, назад, увидев у кого-то на Арбате фотографию юного Пола Маккартни (двадцатилетней, примерно, давности), безумно в него влюбилась (примерно на два дня) — и ни на секунду не сомневалась в тот момент, что, как только вырастет немножко — обязательно выйдет за Пола Маккартни замуж — только Линду было немножко жалко. Улыбнулась — и, не задумываясь, расписалась в пододвинутой ей арбузом через стол книжечке паспорта: «McCartney». Красиво и внятно. У арбуза, налегшего с той стороны стола голубым пузом на столешницу, задрожала какая-то голубоватая же жилка под мешком у правого сощуренного глаза.
— Девушка?! — рявкнул он.
Елена, делая вид, что ну вот абсолютно не понимает, в чем дело, в чем претензии, схватилась за учетную книгу, где роспись надлежало поставить тоже. Арбуз вцепился в углы амбарной книги пухлыми пальцами и не выпускал.
— Девушка?! — растерянно — уже даже как-то обмягши — верещал он. — Это вы что ж это тут хулиганничаете? Вы что здесь написали под своей фотографией?!
— Ну что я могу поделать — раз у меня подпись такая? — отрезала Елена и рванула на себя амбарный фолиант.
Когда вышли из ворот маленького бетонного домика, ей казалось, что Дьюрька сейчас описается от смеха.
На следующий день оказалось опять не до смеху: Анна Павловна объявила, что МИД вызывает всех желающих поехать в Мюнхен — на идеологическое собеседование.
— Леночка, умоляю — не ходи туда, скажись больной — ну что тебе стоит? Ради всех нас — не срывай нам всем поездку! — стонала Анна Павловна. — Я ведь знаю, что ты там скажешь… Я готова лично подтвердить им, что у тебя дичайший грипп с высокой температурой, срочно слегла, и так далее… Прошу, не ходи!
— Анна Павловна, зря стараетесь: я бы туда все равно не пошла, даже если бы вы на колени передо мной встали.
Дьюрька, хохотнув, в МИД все-таки пошел, заявив, что он, мол «стреляный воробей».
— Ну и ничего нового не было… — разочарованно отчитался Дьюрька, тут же, набрав Елене из телефонного автомата. — Помнишь, как Таня в райкоме нас накручивать пыталась?! Во! Слово в слово всё! У них, видать, одни методички: «Что вы скажете, когда иностранные дяденьки и тетеньки — которые все как один, на самом деле, замаскированные агенты капиталистических стран, — начнут вам задавать каверзные вопросы и клеветать на наш родной советский строй?» «Как честные граждане, которым родина сделала такое великое одолжение, что вас выпустила, вы обязана сказать, что у нас все прекрасно».
— Ну?! Ну?! И что ты им ответил, Дьюрька? — торопила его с рассказом Елена.
Дьюрька стыдливо хмыкнул:
— Я промолчал. Как партизан. Ради всех.
Все было решено. Было ясно, что даже если спецслужбы заартачатся, проверяя каждого в отдельности, личное распоряжение Горби вряд ли кто-то решится нарушить: вряд ли кто-то решится захлопнуть перед самым их носом шлагбаум.