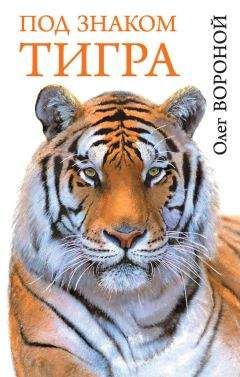Томас Вулф - Взгляни на дом свой, ангел
— Мистер Уиллис!
Белое, ошеломленное, подобострастное лицо терпеливого раба.
— Да, сэр.
— Что я держу?
— Палочку, сэр.
Что такое палочка?
Это… кусок дерева, сэр.
Пауза. Иронические брови ждут от них смеха. Они уродливо хихикают для волка, который их пожрет.
— Мистер Уиллис говорит, что палочка — это кусок дерева.
Их смех стучит по стенам. Абсурд.
Но палочка все-таки кусок дерева,— говорит мистер Уиллис.
Так же как дуб или телеграфный столб. Нет, боюсь, это не подойдет. Класс согласен с мистером Уиллисом?
Их серьезные пыжащиеся лица обдумывают вопрос.
Палочка — это кусок дерева определенной длины.
Следовательно, мы согласны, мистер Рэнсом, что палочка.— не просто дерево неограниченной протяженности.
Оглушенное лицо крестьянина, моргающее от напряжения.
Я вижу, что мистер Гант наклоняется вперед. На его лице свет, который я и прежде видел там. Мистер Гант по ночам не спит, а мыслит.
Палочка,— сказал Юджин,— не только дерево, но и отрицание дерева. Это встреча в пространстве дерева и не дерева. Палочка — конечное и непротяженное дерево, факт, определяемый его собственным отрицанием.
Старая голова слушает серьезно сквозь их иронический вдох. Он подтвердит мои слова и похвалит меня, ибо я сопоставлен с этой крестьянской землей. Он видит меня носителем высоких знаний, а он любит победы.
— Мы теперь нашли ему новое имя, профессор Уэлдон,— сказал Ник Мебли.— Мы зовем его Гегель Гант.
Он слушал раскат хохота; он видел, как их довольные лица отвернулись от него. Это были добрые намерения. Я улыбнусь — их великий оригинал, любимый чудак, поэт среди деревенщин.
— Это имя, которого он может стать достойным, — сказал Верджил Уэлдон серьезно.
Старый Лис, я тоже умею жонглировать твоими фразами так, что им никогда меня не изловить. Над чащобой их умишек наши отточенные умы высекают иронию и страсть. Истина? Реальность? Абсолют? Всеобщность? Мудрость? Опыт? Знание? Факт? Понятие? Смерть — великое отрицание? Парируй и коли, Вольпоне! Разве у нас нет слов? Мы докажем, что угодно. Но Бен и демонический отблеск его улыбки? Где теперь?
Весна возвращается. Я вижу овец на холме. Коровы с колокольчиками идут по дороге в гирляндах пыли, фургоны, поскрипывая, возвращаются домой под бледным призраком луны. Но что шевельнулось в погребенном сердце? Где утраченные слова? И кто видел его тень на площади?
А если бы они спросили вас, мистер Раунтри?
Я бы ответил правду,— сказал мистер Раунтри, снимая очки.
Но они разожгли большой костер, мистер Раунтри.
Это не играет никакой роли,— сказал мистер Раунтри, снова надевая очки.
Как благородно способны мы умереть за истину – в разговорах.
Это был очень жаркий костер, мистер Раунтри. Они сожгли бы вас, если бы вы не отреклись.
И пусть бы сожгли,— сказал святой мученик Раунтри сквозь увлажнившиеся очки.
Мне кажется, это было бы больно,— предположил Верджил Уэлдон.— Ведь даже маленький ожог болезнен.
Кому хочется гореть на костре? — сказал Юджин.— Я бы сделал, как Галилей,— отрекся бы.
Я тоже,— сказал Верджил Уэлдон.
На их лицах над тяжеловесным хохотом класса — изломы веселого злорадства. И все-таки она вертится.
— По одну сторону стола стояли объединенные силы Европы, по другую — Мартин Лютер, сын кузнеца.
Голос жгучей страсти, потрясенной души. Это они могут запомнить и записать.
— Перед таким испытанием могла бы дрогнуть и самая сильная душа. Но ответ был мгновенным: Ich kann nicht anders — я не могу иначе. Это одно из величайших
изречений истории.
Эта фраза, пускаемая в ход уже тридцать лет, сувенир Гарварда и Йеля, Ройса и Мюнстербурга. Жонглировать словами Уэлдон научился у тевтонов, но поглядите-ка, как жадно класс лакает все это. Он не хочет, чтобы они читали,— а вдруг кто-нибудь обнаружит лоскутки, которые он надрал из всех философов от Зенона до Иммануила Канта. Пестрое лоскутное одеяло трех тысяч лет, насильственное сочетание непримиримого, суммирование всей человеческой мысли в его старой голове. Сократ роди Платона. Платон роди Плотина. Плотин роди Блаженного Августина… Кант роди Гегеля. Гегель роди Верджила Уэлдона. Здесь мы останавливаемся. Родить больше нечего. Ответ на все сущее в Тридцати Общедоступных Уроках. И как они все уверены, что нашли этот ответ!
А сегодня они потащат к нему в кабинет свои тупые души, будут изливать бесплотные признания, будут корчиться в наспех состряпанных пытках духа, исповедоваться в борьбе с собой, которой никогда не вели.
— Чтобы так поступить, нужен характер. Для этого требовался человек, которого не мог сломить никакой нажим. Вот этого-то я и хочу от своих мальчиков! Я хочу, чтобы они побеждали! Я хочу, чтобы они впитывали отрицание самих себя. Я хочу, чтобы они хранили чистоту, как зубы гончей.
Юджин сморщился и оглянулся вокруг на лица, исполненные решимости отчаянно бороться за моногамию, политическую программу своей партии и осуществление воли большинства.
И баптисты боятся этого человека! Почему? Он обрил бакенбарды с их бога, но в остальном он только научил их голосовать за кандидатов их партии.
Вот он, Гегель хлопкового Юга!
В те годы, когда апрель был юной зеленой дымкой или когда весна раскрывалась в спелой зрелости, Юджин часто уходил из Пулпит-Хилла и ночью и днем. Но ему больше нравилось уходить по ночам и бежать по прохладным весенним просторам, полным росы и звездного света, под необъятными песками луны в ряби облаков.
Он отправлялся в Эксетер или Сидней; иногда он уезжал в маленькие городки, в которых никогда раньше не бывал. Он регистрировался в гостиницах как «Роберт Геррик», «Джон Донн», «Джордж Пиль», «Уильям Блейк» или «Джон Милтон». И никто ни разу ничего не сказал ему по этому поводу. Жители этих городков носили и такие имена.
Иногда в гостиницах со скверной репутацией он с темным жгучим злорадством регистрировался как «Роберт Браунинг», «Альфред Теннисон» и «Уильям Вордсворт».
Однажды он зарегистрировался как «Генри У. Лонгфелло».
— Меня не проведешь,— сказал портье с жесткой недоверчивой усмешкой.— Это фамилия писателя.
Его томила беспредельная, странная жажда жизни. Ночью он прислушивался к миллионоголосому завыванию маленьких ночных существ, к огромной задумчивой симфонии мрака, к звону далеких церковных колоколов. И его мысленный взгляд все ширился и разбегался кругами, вбирая в себя залитые луной луга, грезящие леса, могучие реки, катящие свои воды во мраке, и десять тысяч спящих городов. Он верил в бесконечно богатое paзнообразие городов и улиц; он верил, что в любом из миллионов жалких домишек таится странная погребенная жизнь, тончайшая сокрушенная романтика, что-то темное и неведомое. Когда проходишь мимо дома, думал он, именно в этот миг там внутри, быть может, кто-то испускает последний вздох, быть может, любовники лежат, сплетаясь в жарком объятии, быть может, там совершается убийство.