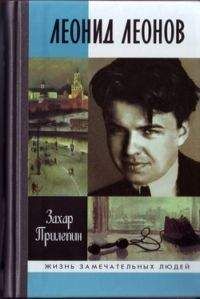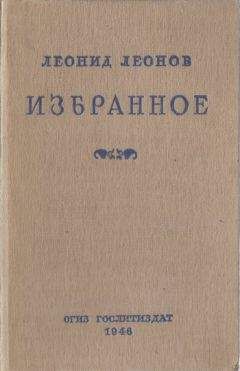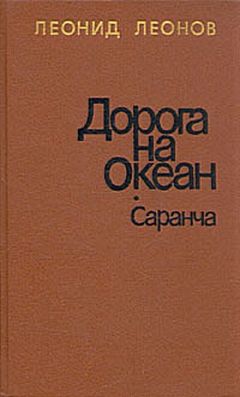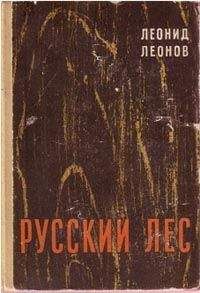Леонид Леонов - Пирамида. Т.1
Кстати, вы никогда не задавались вопросом: чем и как может искушаться некто, по самой своей натуре не способный согрешить? Начать с того, что посторонних свидетелей нашей с вами басни в тексте не указано и, поверьте, уж мне-то стало бы известно, если бы искуситель сам же кому-нибудь и проболтался о ней... Но с чего бы ему было посвящать мир в историю своего фиаско? Итак, информация о состоявшемся событии могла поступить лишь от главного его участника, не так ли? Вдобавок лаконизм рассказа и отсутствие мотивировок толкают на предположение, что сам рассказчик утаил что-то от всех четверых евангелистов... Не подскажете, что именно? И почему скуповато открывшись одному из двенадцати учеников и двум из семидесяти, не доверился любимцу своему Иоанну, более прочих способному, казалось бы, объяснить последующему христианству проверку великого пророка перед его выходом на арену подвига через злейшего антипода, даже со временным отданием ему в подчиненье, что так неуклюже пытается смягчить Ориген и с ним другие экзегеты. А скажите, Матвей Петрович, вас самого нимало не смущает столь бесцеремонное обращение с вашим шефом, в первую очередь унизительная редакция соблазнов во всех трех турах искушенья, ибо уважение к соблазняемому не мерится ли размером предложенной цены? Конечно, и горы земные тоже постерлись с той поры, но что-то в тогдашней иудейской пустыне не припомню я Эверестов для панорамного обозрения царств земных, способных пленить воображение аскета... И вообще, если Юлиан мучился недоуменьем, как смог при его гордыне искуситель, даром предвиденья знавший все наперед, согласиться на участие в заранее расписанном спектакле... то тем более непонятно, почему сам искупитель, сын такого отца, должен был претерпеть испытательные, ни одним догматом не обусловленные, процедуры? Возникает законное сомнение в добровольности сторон, откуда шаг один до версии о некоем предвечном и обязательном сотрудничестве для пользы дела, что привело бы нас к наиболее каверзному пункту о роли и происхождении Зла. Почему, в самом деле, после безусловной победы Главный не поступил с противником, скажем, как Уран с Кроносом, а позволил ему не только копить ненависть к Добру, но и доставлять людям средства к перманентному его повреждению? Так чем же диктовалось опасное милосердие к падшему — слабостью, презрением, необходимостью? Значит, позволительно считать Зло попущением Добра, эманацией, даже функцией и, следовательно, рассматривать деятельность Главного под углом наполеоновского изречения, будто дело государственного управления состоит в искусстве равномерно волновать возлюбленное отечество... простите? — слегка подался он вперед.
— Вера благоговейно обходит тайнички, не поддающиеся лукавым отмычкам ума, — даже со стула поднялся Матвей, поглаживанием ладони стараясь унять поднявшееся сердцебиенье. Вслед за ним с успокоительными манипуляциями поднялся и профессор.
— Хорошо, не будем, не будем... тем более что и праотцы погорели однажды от излишней любознательности! — заговорил он встревоженно, жестами возвращая батюшку на прежнее место. — Не будем вдаваться в хитросплетения философских догадок, а лучше взглянем на предмет попроще, с позиции позднейших немецких схоластов, пытавшихся увязать легенду со здравым смыслом посредством перевода ее в бытовой ключ... кстати, до таких порою забавных мелочей, как вопрос доставки пророка из пустыни на кровлю Иерусалимского храма. Естественно, телесная субстанция испытуемого предполагает и материальный способ перемещения, которое, в свою очередь, должен был обеспечить инициатор приключения, не так ли? Было бы неудобно для завтрашнего мессии отправляться через весь город, как получается у Луки, да еще в сомнительной компании, с риском наткнуться по пути на поклонника или ученика... Впрочем, спутник мог заявиться к Иисусу и в переодетом виде, без обычных неприличных излишеств. Блаженный Иероним настаивает на авиаварианте, но как? Способом Фауста, на плаще, что ли? Еще решительнее, вслед за святым Киприаном надо отвергнуть и скоростной, но малокомфортабельный и слишком легкомысленный для верующих транспорт на плечах у рогатого партнера.
Опять же, если оборотистому русскому иноку и позволительно было посетить палестинские святыни на закорках, пардон, у подвернувшегося черта, вряд ли подобный вояж был бы к лицу уважаемой особы назарейского учителя, не так ли?
Не нравится мне почему-то и версия рационалистического богословия, будто под личиной злого духа скрывался обыкновеннейший, для пущего неузнания загримированный под это самое осведомитель, подосланный синедрионом к самозваному царю иудейскому — выяснить пределы его чар и, значит, степень угрозы для их саддукейской партии, губернатора Пилата и римской империи в целом... Всего разумнее, пожалуй, применить здесь поэтический тезис о мирах, умещающихся на острие пера и в едином моменте сокрывающейся вечности. Так, минуя промежуточную логику, мы приходим ко всепримиряющему толкованию знаменитого Федора Мопсуетского...
— Кого еще, кого? — вздрогнув, виновато пошевелился старо-федосеевский батюшка.
— Ай-ай, и не стыдно, батенька, не знать почти коллегу своего, подобно вам одарившего богословие жемчужинами своих озарений? Блистательный оппонент отступника Юлиана, однокашник Ивана Златоуста, морем мудрости прозванный епископ! Он просто рубанул с размаху пресловутый узелок, отвергнув самую вещественность Иисусова искушенья. Если, по евангелисту, все произошло во мгновенье времени, значит, мгновенно, как в той прелестной новелле про Магомета с падающим кувшином. В личной беседе я не раз указывал Федору на существование Джебел-Коронтоль, сорокадневной горы, как места действия, но по свойственной вашему брату одержимости он осмеял свидетельские показания очевидца. По нему призрак искусителя возвел смятенную душу Назорея на им же произведенное видение скалы с панорамным обзором вселенной, но сам аскет увидел оттуда его собственным алканьем созданные соблазны — хлебы и простор для паренья, раскинутые внизу пестрые царства земные. Видимо, я присутствовал там, хе-хе, лишь как подголосок Иисусовой мысли, аргумент ex inferno[6]... и все же, невзирая на краткость приключенья, память моя сохранила мельчайшие подробности. — Незнакомые нотки умиленья явились в голосе Шатаницкого, а во взоре даже читалось стремление проникнуть в даль времен. — Но почему-то еще ярче запомнилась мне вторая половина, то раннее свежее утро на северном храмовом крыле, зеленая гуща гефсиманского парка направо, долина Кедрона впереди и, наконец, он сам, в профиль, на фоне смутного в утренней дымке, Иерихонского оазиса. Видимо, он уже знал свою судьбу, но пока во внешности его — большого художника, истощенного непрестанной медитацией в зное полуденных скитаний, еще не проступала свойственная всем им, в предчувствии скорой казни, тоска обреченности... если вы помните, судя по гефсиманской же мольбе, на свою Голгофу пророк собирался без особого воодушевления, не так ли? Все же значительно возмужал с нашей последней встречи, в чем-то даже окрылился слегка...