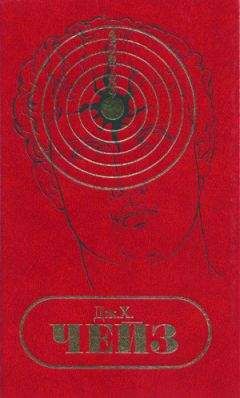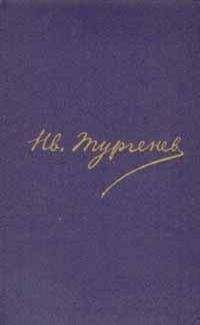Виктор Астафьев - Последний поклон (повесть в рассказах)
Я бил ему в грудь, и, должно быть, все же угодил, куда нацелил.
Вожак приподнял голову, рванулся еще раз и осел на подломившиеся ноги. Так по-кроличьи, на лапах, лежал он и глядел на меня. По бороде его быстро-быстро капала в снег черная кровь. Я загородился ружьем, попятился было от козла, но неожиданная ярость ослепила и бросила меня на вожака, я бил по рогатой голове прикладом и, не слыша себя, вопил:
— А-а, шаман! А-а, оборотень! Чё глядишь? Чё глядишь? Сено жрал! Сено жрал!..
Хрустнула кость. Я проломил вожаку голову, затоптал еще живую, но уже вялую его тушу в снег и все кричал, кричал. Расщепал бы я приклад ружья, если б не подбежал Кеша.
— Ты чё? Снурел? Совсем снурел! — оттолкнул он меня так сильно, что я упал и лежал вниз лицом в снегу, дрожа, но не остывая. Хватив губами мягкого, козьей мочой пахнущего снега, я проглотил его и потрогал лицо рукавицей. Боль вернула мне живое ощущение, я высморкался, утер глаза и принялся заматываться шалью.
А потом сидел на сене тупой, выпотрошенный, братан вертел в руках тулку[226] и виноватым голосом бубнил:
— Ружье-то тятино, голова! Поломал бы! — неожиданно Кеша наклонился, пошарил и вынул из снега рога.
— Гляни-ко, отвалилися!.. — протянул их мне.
Я пощупал их. Острые бородавки на рогах цеплялись за пальцы.
— Навно уж отвалиться имя нано, — пояснил Кеша, — а он носил, маялся, помогли мы ему… — и гыгыкнул: — Трофей по горонскому называется. Отдашь своей шмаре. Возликует.
— Моя шмара рогов не любит, — сказал я и поднялся. Узнавши про Кешину ухажерку, конечно же, как истинный фэзэошник, я не удержался, расхвастался — у меня, мол, тоже шмара есть, и не одна.
— А чё любит-то? Конфеты? — вытаскивая лыжи из зарода, полюбопытствовал братан.
— Браслет ей надо золотой. А лучше — пайку черняшки. Да побольше!
— С претензией барышня. Они такие, горонские-то!
— Ты зубы не заговаривай! И не проболтнись… как меня тут родимец хватил…
— Че я, маленький, че ли… — Кеша сочувственно вздохнул: — Нервный ты человек, потому што жизнь твоя с малолетства…
— Н-ну, заве-ол! Еще попричитай, как бабушка.
— И попричитаю. И попричитаю! Я, может…
— Ладно, кончай! Говори, чего делать?
Кеша сопел, промаргиваясь на луну.
— Навай туши связывать! Эк ты его измолотил! Воин!
От Кешиного избяного ворчанья мне сделалось легче, я стыдиться самого себя начал и хотел как можно скорее уйти с покоса, из тайги этой, мерзлой, чужой, даже как будто враждебной.
Связав широкие охотничьи лыжи, мы завалили на них застывшего вонючего козла, сверху примостили добытую Кешей козлушку с махоньким вымечком и темными, дамскими ресницами, полуприкрывшими мертвые глаза. Связав туши бечевкой, надели по одной лыже и побрели вниз, к Манской речке. Идти на одной лыжине по целику и волочь за собой кладь тяжело. В момент согрелись мы, сбросили дохи, привязали их поверх добычи, двинулись ходчее.
Скоро достигли санной дороги, потопали без лыж. Местами катались под гору, навалившись на мягкие дохи, под которыми моталась голова козла и бородой мела снег. Вся тягость схлынула, как только мы покинули зарод, и я уж радовался, что все так хорошо получилось — с добычей, коз на время отпугнули. Только глубоко-глубоко во мне таилось ощущение, будто в спину вонзился живой чей-то взгляд и, пронзивши меня, не отдаляется, не исчезает, а как бы растягивается все дальше, все тяжелее провисающей над дорогой проволокой, конец которой соединен с густо темнеющей тайгою и мерцающими в небесах хребтами, где скрылись и залегли в снегах козы в мохнатой зимней шерсти. И в то же время меня все больше глодал стыд за ту слабость, которую я выявил на охоте и которую ни один мой селянин не захотел и не смог бы понять. У нас от веку жили охотой, и если ты взял в руки ружье — стреляй. Нет — сиди, как сапожник Жеребцов, на вытертой седухе, починяй обутки — тоже промысел.
Мы миновали сплавной участок на Усть-Мане. От него доносился треск остывающих в ночи домов да запах едкого древесного дыма. Я потянул носом и вспомнил шорницкую, Дарью Митрофановну — надо будет занести ей на варево-два мяса, вот обрадуется женщина.
Чужая сделалась Усть-Мана без заимок. Казенное место с казенными службами. Но деваться некуда, многие наши односельчане работали здесь, бегая через горы летом и зимой, еще работали на Слизневском лесоучастке, на известковом заводе, на подсобном хозяйстве института, потому как село Овсянка, в котором колхоз так и не удержался, хотя канителились с ним долго, повисло как бы между небом и землей. Но большинство населения продолжало жить от земли: огородом, лесом и рекой, и теперь люди без определенных занятий, как их называли, получивши иждивенческие карточки в сельсовете, не знали, где их отоваривать. Торговая точка в нашем селе, пережив все переходные названия — винополка, потребиловка, казенка, лавка, кооператив, так и не достигнув солидного названия — магазин, переместилась в Слизневский лесоучасток и не скоро вернулась восвояси.
На Енисее дорога укатана обозами. Стужа меж скал не стояла, двигалась в одну сторону — вниз, всегда вниз, всегда по течению, даже зимой, видно, так уж в наших местах наклонена земля. Потные спины и разгоряченные лица начало сводить и корежить морозом. Я плотнее закутался шалью. Мы снова натянули дохи, впряглись в лямки, покатили.
По всей реке от прибрежных скал лежали зубчатые тени, однако дороги они не достигали, и ехать было весело. Лишь тень Манского быка перехлестнула дорогу. Мы ступили в полумрак тени, пошли медленней, тише, вовсе остановились.
Манский бык залит лунным светом. Вершина его металлически блестела. Сиротливо чернели наверху голые лиственницы. Тяжело вламывался бык в твердь Енисея. Обдутый ветрами лед у подножия вспучился и растрескался. Камень быка резко очерчен по то место, докуда поднималась вешняя вода. Выше черты вспыхивали прослойки слюды. По ржавчине, выступившей из камня, наляпаны пятна ползучего плесенного мха, живого даже в такую морозину, когда и камень сам не выдерживает — лопается. В углу быка, в том месте, куда веками били две реки — Мана и Енисей, — зияла пустым жерлом губастая пещера. В холодной ее пасти белели наплывы льда.
В детстве мы боялись ходить сюда поодиночке, хотя в коренную воду у этого гиблого места здорово брал налим. Нам все чудилось, что пещера вот-вот каменно хрустнет челюстями и заглотит нас заживо.
У подножия утеса в трещины льда насыпался камешник. Под быком, под тяжелой его грудью, на льду там и сям остроуглые булыжники. Иные докатились до дороги, завалились в корыто, выбитое копытами коней.