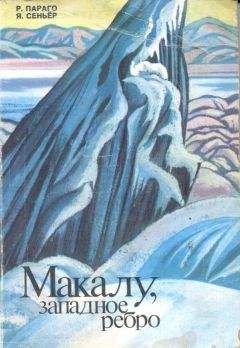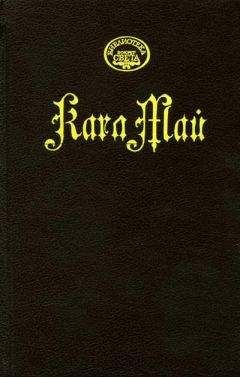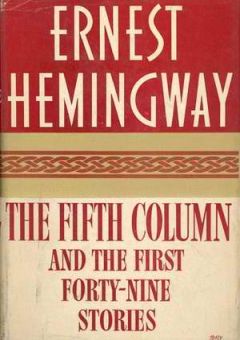Дом - д’Истрия Робер Колонна
Звуки дома, шумы соседей, лай собак, крикливые чайки, утки с островных ферм, моторы, музыка – весь он, гомон обыденной жизни, исчез, словно канул в море. Х была далеко от всего, в уединении, вдали от мира, в другом мире, безмерно огромном. Остался только плеск волн, одна за другой, накатит, отхлынет, неотвязно, непрерывно. Их глубокая и ласковая колыбельная. Была ли то память? Тревога? Сон? Или снова желание?
Х мерзла, так ей казалось. По крайней мере, было искушение вспомнить атмосферу в доме, теплую и согревающую, живую, солнечную. Сказать по правде, мир Х не имел ничего общего с обледенелыми просторами, насколько хватает глаз, полярной стужей, заснеженными горами или острой сушью ледяных степей. Ни даже с чувственным миром прохладных вечеров, которые она помнила в конце лета, когда ужинала на своей террасе. Там, где она пребывала, не было холодно. Впечатление оказалось обманчивым. Жизнь принимала иные формы, была не так пестра, не так радостна. Но, если вдуматься, от нового местопребывания Х исходило странное ощущение: здесь было ни тепло, ни холодно. Эти понятия просто были здесь не в ходу.
Запахов тоже не было в этих краях. Ничего даже отдаленно похожего на то, чем пахло в доме, на острове – в разные времена года, в разное время дня… Запахи кухни – так пахла сама жизнь, праздник, радость, – запахи материалов, из которых построен дом, древесины, леса, окрестных лугов, запахи травы, сада после дождя… Запахи все новые и новые, смешанные, тончайшие, эфемерные, неизгладимые. Все это исчезло. Уступило место бескрайнему межзвездному пространству, безбрежной тишине, вечному покою.
Ее теперешний мир был не враждебным, не тревожным, не гнетущим, но он не был ничем ограничен. Это даже не вызывало головокружения. Здесь было легко, покойно. Постепенно обживаясь в своей новой реальности, Х увидела свою семью, близких, тех, кого любила. Она передвигалась в этом мире благодаря своим пяти чувствам. Ей ясно виделась ее жизнь, те, кто был рядом, ясно виделись ее хорошие и дурные поступки, подсчитанные с помощью белых и черных камешков.
Она обращалась к близким, к каждому из своих друзей, унесенных ветрами на все четыре стороны, и просила их рассказать ей про ее дом. Какой его образ они сохранили в памяти? Что полюбилось им в этой Марии, которую перемололо море, превратило в ничто? Чем, в конечном счете, стал дом в их душах? В воспоминаниях тех, рассеянных по свету, кого Х так приблизила к себе и так любила?
Одному полюбилась его скромность.
Другому его очарование, гармония, краски.
Большинство оценили вид.
Много поклонников нашлось у сада.
Одни вспоминали праздники, которые устраивали в нем.
Другие предпочли долгие дни отдыха и, уже тогда, тишины перед величием пейзажа.
Робер любил в нем мечтать. Как будто этот дом и был лишь кусочком мечты. Мечты в чистом виде.
Симон был счастлив приезжать туда на рыбалку. И еще счастлив, что стал в осуществлении этого дома единомышленником Х и смог вместе с ней провести в нем счастливые дни.
Женщины острова жили воспоминаниями и умели находить счастье в том, что было и прошло.
Женщины с континента были восприимчивы к деталям, к комфорту, к подписям дизайнеров мебели. И эти вечные их пересуды.
Одна девушка встретила там юношу – дети друзей провели день на острове. Это стало началом долгой истории: молодые люди полюбили друг друга, поженились, обзавелись детьми, и все они были более или менее наследниками Х и Марии. Какая удача!
Одному соседу нравился запах жасмина, который доносил до него ветер.
Другая соседка плохо помнила места, но ей нравилась Х. Она говорила, что дом неотделим от той, что его построила, жила в нем и вдохнула в него душу.
Одна мамаша вспоминала свою маленькую дочку. Та сделала там, на террасе, свои первые шаги. Крошечные шажки, шаги гигантские. Как человечно.
Один пастух нашел там свою овечку, она забрела в сад. Он пришел ее искать и, за стаканчиком, поболтал с хозяйкой дома – которая всегда привечала пастухов.
Беренис принесла однажды букет полевых цветов, такой большой, что ее не было за ним видно. Х всегда любила цветы.
Один друг детства запомнил удивительный лунный свет. Он читал стихи и вместе с Х пел песни из прошлого.
Одна коллега приехала к Х поработать над трудным досье: она совсем не видела дома, ничего о нем не помнила, в памяти отложилось только досье.
Одному писателю запомнилось изысканное вино.
Один фотограф сохранил снимок, почти абстрактный: три полосы одна над другой, перила, море, небо.
Один доставщик вспоминал, как трижды привозил один и тот же круглый столик. В первый раз столик сломался в фургоне. Во второй оказался не той модели. В третий раз они с Х для почина выпили за столиком кофе.
И так далее, часами. Все, кто бывал в доме, гостил в нем, жил, знал Х, добавляли свои памятки, свои поправки. Свои эмоции при упоминании о канувшем счастье. Вся жизнь дома, его невзгоды и особенно его счастливые дни, проносились в голове Х. С известием, что дома не стало, сгинула не только постройка, но люди, жизнь, ее жизнь. Рухнул не только дом – рухнул ее мир.
Она признавала: ее дома больше нет. Мария была для Х элементом ее чувственного, эмоционального мира, как мог бы быть таким элементом лес, любимая гора, знакомый пейзаж – как был им сам остров и тот уголок острова, где она построила свой дом. Неистощимое очарование того, что наполняло сердце при встрече с ним, и было одной из форм счастья. Запертый, запретный, дом лишился своего исконного достоинства, которому был предназначен: большое несчастье, утрата и для него тоже. Надо было бы обратиться к нему, спросить его, что он думал – мог бы думать – о Х и ее близких. Вообразить, как больно и ему, как одиноко. На вершине утеса дом, как Х, должно быть, ощущал себя почти мертвым, уже в ином мире, его чувства и радости стали не нужны, он жил только памятью, смирившись – что есть признак старости, или еще только старения, себе в утешение сказал бы кто-то, – с тем, что живет отныне только в прошлом.
Х, его бывшей хозяйке, если только можно доверять выражению «хозяйка дома», было бы забавно выслушать его откровения. Ведь дому наверняка было известно и то, чего не знали люди. Он был терпелив, внимателен, никого не судил. Он помнил людей, помнил чувства, любовь, нежность, ревность, разочарование, равнодушие, гнев, объединявшие – или разъединявшие – одних и других. Дом знал страхи всех этих людей, гостей и жильцов, их тревоги, изъяны и изломы их характеров – не одни только утесы на острове так хрупки… Он знал, потому что был тому свидетелем, и такое, о чем не говорили, в чем никто никогда не признавался, но что было, однако, в той же мере, что и внешнее – нет, больше, – сутью жизни. О живших в нем людях дом знал все. Можно ли было вызвать его на откровенность? Освободившейся от усталости, забот, неприятностей, от гиперотдачи своему замыслу, скинувшей с плеч тяготы бренного мира, Х показалось – но это была лишь иллюзия, – что она могла бы докопаться до секретов, которые таил ее единомышленник. Какое все это теперь имело значение? Х забывала канувший мир: она была не здесь.
Квартира директора школы характером не обладала. Тесное, без вида из окна, темноватое помещение выглядело функциональным и примитивным. Ни в чем ему было не выдержать сравнения с домом на утесе. Однако Х в ее несчастье стало большим утешением оказаться здесь. Ведь мэр и коммуна предоставили эту квартиру в ее распоряжение, разве не было это знаком – доказательством, – что ее приняли, признали своей на острове? Что она вошла в островное сообщество, что сообщество мобилизовалось, чтобы оказать помощь и поддержку одному из своих членов? Пришлую наверняка спровадили бы на корабль, вежливо, конечно, – «Извините нас, мадам, нам очень жаль, что с вами так вышло, мы ничем не можем вам помочь. Мужайтесь, мадам». Ей сделали бы ручкой, выставили за дверь. А Х окружили заботой, вниманием. В ее беде это был источник радости.