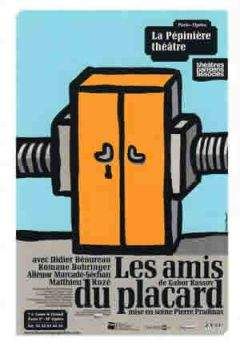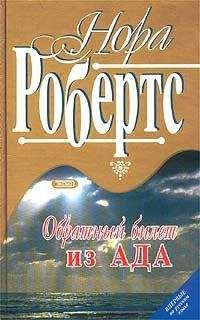Обратный билет - Санто Габор Т.
Он долго колебался, надо ли рассказывать жене, что за странные чувства его вдруг посетили. И в конце концов решил: пока он сам в этом не разобрался, лучше все держать про себя. Ему казалось, жена его не поймет. Честно говоря, он и сам точно не понимал, что с ним происходит. Он знал одно: ему очень хочется присутствовать на празднике, хочется именно в этот день быть в какой-нибудь синагоге, а перед этим поститься, как постился когда-то… Было досадно немного, что он никак не может сформулировать, зачем ему это надо, почему ощущает необходимость воскресить обычай, который так долго, более двух десятилетий, не соблюдал. Его мучило, что он не может ответить на свои собственные вопросы; но поскольку никто не ставил их перед ним, ему легче было так и оставить их без ответа.
Жена его тоже преподавала в университете, на юридическом факультете, на кафедре буржуазного права. Ее родители еще в довоенные времена отдалились от иудаизма; правда, и выкрестами не стали, хотя им мешало сделать это скорее брезгливое отношение к приспособленчеству, чем какие-то принципиальные соображения. Когда она вспоминала детство, больше всего ей не хватало тогдашних рождественских праздников. После Освенцима у этой женщины не осталось близких… Сейчас они отмечали только свои дни рождения.
Познакомились они на каком-то университетском митинге в защиту мира. Очень быстро выяснилось, что семьи у обоих: родители, супруги, дети — не вернулись из концлагерей. У женщины, правда, осталась племянница: она жила в Сольноке, вышла там за преподавателя, которого не интересовало, какой национальности у него жена. У З. после тысяча девятьсот сорок четвертого уцелел брат, но из лагеря он вернулся с туберкулезом, и полтора года, проведенные в санатории, не сумели его спасти. В те годы было немало таких, чудом выживших, которые, пытаясь забыть утраты, создавали «суррогатные семьи» и давали новым детям имена прежних, погибших… Правда, как обычно, со временем выяснялось: для лечения душевной травмы это редко служило надежным лекарством… З. и его будущая жена долго страдали от одиночества, не в силах найти никого, кто мог бы в какой-то мере заменить им утраты. Наконец им повезло: встретившись, они обрели друг в друге опору и понимание; хотя на пылкие чувства оба уже не были способны, тем не менее, когда через три недели после знакомства она перебралась к нему с двумя чемоданами скудных пожитков, оба знали: они заключили удачный союз.
К тому моменту З. уже бросил Школу раввинов. Она же училась на четвертом курсе юрфака, была секретарем партбюро курса. И при этом работала: надо было платить за комнату. Оба всей душой верили в новый строй, который осудил нацизм и обещал людям светлые перспективы: им двоим, в частности, безопасность и спокойную научную карьеру.
Поженились они в декабре тысяча девятьсот сорок девятого; на регистрации присутствовали двое коллег с его стороны и несколько сокурсников — с ее. Он в своем тесном черном костюме одновременно потел и зяб. Когда регистраторша велела молодоженам надеть друг другу кольца, ему вспомнилась первая свадьба, состоявшаяся двенадцать лет тому назад, свадебный шатер, зардевшееся лицо невесты под фатой. У него вдруг перехватило дыхание, и, растерявшись, он попытался было надеть невесте кольцо на указательный палец, как принято по еврейским обычаям.
В начале пятидесятых они, затаив дыхание, следили, что происходит вокруг. Университет давал им некоторую защищенность; хотя преподавание было втиснуто в тесные идеологические рамки, оба, к счастью, в это время не занимали высоких постов, а потому и не были в фокусе пристального внимания. Он тогда еще не вступил в партию, а жена давно уже не была секретарем, так что никто их пока не трогал.
Осенью тысяча девятьсот пятьдесят шестого они с осторожным оптимизмом прислушивались к дискуссиям в Кружке Петефи, к требованиям развивать демократию; но после двадцать третьего октября почти не выходили из своей квартиры на улице Пожони. Доносившиеся звуки стрельбы повергали их в отчаяние; а после того, как стало известно о линчеваниях на площади Республики, они тоже пришли к выводу, что в стране происходит контрреволюция и надо готовиться к самому худшему.
За те страшные двенадцать дней им пришлось многое переоценить, передумать. Впервые после семилетнего перерыва он зашел в Школу раввинов, ничего не сказав об этом жене. Он сам точно не знал, что он хотел сказать новому директору: то ли предложить свои услуги, то ли просто выразить солидарность, мол, смотрите, на чьей я стороне в этот тяжелый момент. Ясно было одно: его встревожили вести (приходящие из провинции) о пока еще не слишком серьезных антисемитских выходках, и он хотел из компетентного источника знать, как сами евреи оценивают свое положение. Побеседовав с глазу на глаз, они с директором договорились, что через пару недель он придет снова, и тогда, если ситуация того потребует, обсудят вопрос, не стоит ли ему, сохранив за собой университетскую должность, вернуться в Школу хотя бы почасовиком. Следующая встреча так и не состоялась; З. позвонил директору из уличного автомата и сказал: в данных обстоятельствах его предложение теряет смысл.
В декабре пятьдесят шестого для З. открылась еще одна перспектива: ему предложили занять освободившееся место бернского раввина. В письме, присланном через посольство Швейцарии, сообщалось: на этот пост его рекомендует директор Школы раввинов, а также колония венгерских евреев в Берне; кроме того, если захочет, он сможет вести преподавательскую работу на кафедре иудаики в Бернском университете. Предложение было более чем заманчивым, и он всерьез задумался над ним. Он знал, что будет достойно выглядеть в любом западном университете. Однако жена даже в самые тяжелые дни и слышать не хотела о том, чтобы уехать из Венгрии: ее научному росту эмиграция совершенно точно нанесла бы непоправимый урон.
Поэтому он ничего не сказал жене о полученном предложении. А в мае пятьдесят седьмого, все взвесив, написал заявление о приеме в партию. Он знал, что делает, знал, что этот шаг — обязательное условие продвижения по научной лестнице.
В тот понедельник, когда он принял решение насчет праздника Йом Кипур, вечером, как бы между делом, он сказал жене, что в конце следующей недели должен будет поехать в Печ, для участия в какой-то не слишком значительной конференции. Жена, в домашнем халате, сидела, поджав под себя ноги, в углу дивана; услышав, что говорит ей муж, она, не снимая сползших на нос очков, устало прикрыла глаза. Она привыкла, что муж не способен сказать «нет», когда его просят выступить перед более или менее широкой аудиторией и рассказать о древнем Израиле. Ну да, он далеко ушел от религии, которой отдал свои молодые годы (она никогда не могла понять, как религиозность совмещается в нем с сугубо рациональным умом, с натурой ученого), однако до сих пор считает своей миссией, своим долгом знакомить любую аудиторию, по возможности объективно, с историей и верой евреев. Она не могла, хотя бы про себя, не улыбаться, когда вспоминала единственную его фотографию, снятую вскоре после войны в Школе раввинов; он был на ней в одеянии и головном уборе священника: видимо, снимок сделали на церемонии посвящения в раввины. «Вот она, клерикальная реакция, в полном боевом снаряжении», — смеялась она, когда фотокарточка попадалась ей на глаза, и муж, хмыкая, отмечал про себя, что, если бы речь шла не о нем, ее ирония вряд ли была бы столь мягкой.
Профессор смотрел на жену, на ее круглое, утомленное лицо с мальчишеской прической, ожидая, как она отреагирует на его сообщение. И когда она лишь кивнула и вновь склонилась над какой-то русской книгой по юриспруденции, он почувствовал облегчение. Все равно она ничего бы не поняла, только смутилась и растерялась бы, успокаивал он себя, оправдывая свою невинную ложь. И еще с минуту не отводил взгляда от этой женщины, на которой женился без любви и которая пошла за него без любви… однако они жили в такой гармонии, какую ему в семьях друзей и знакомых не довелось встретить ни разу.