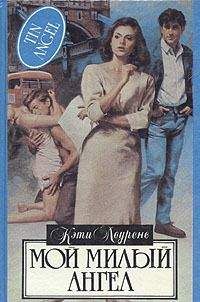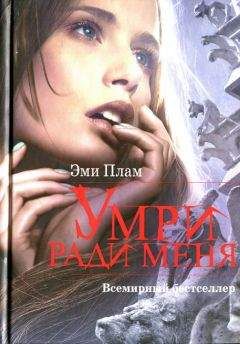Близости (СИ) - Китамура Кэти
Бывший президент покачал головой и вздохнул. Да что я вам рассказываю, продолжал он. Язык — он по вашей части, вам на этот счет виднее. Все остальные в комнате тихо переговаривались или сидели, погрузившись в бумаги. Он молчал, ждал, что я скажу. Помешкав немного, я ответила: моя работа — сокращать дистанцию между языками. Совсем не та отповедь, что вертелась у меня на языке, пустопорожняя фраза, произнести ее — все равно что промолчать. Однако я сказала правду: затуманивать значение его поступков или тех слов, которые для него столь несущественны, я не стану, моя задача — сделать так, чтобы где-то в пространстве между языками слова не отыскали отходного пути.
Бывший президент сидел неподвижно, он ждал, что я скажу что-нибудь еще. Но я больше ничего не сказала, и тогда он обратился к Кеесу — неохотно, утомленно: ну что, продолжим? И я наконец поняла, как он устал от декламации собственных преступлений, от изыскивания адвокатской стратегии, хотя она-то, может статься, и приведет его к свободе. Он обводил взором расположившихся вокруг стола юристов, он в гробу видал всех этих людей, ведь они — физическое воплощение его виновности, в которой лично я ни на минуту не сомневалась. Эти мужчины давили на него конкретикой его деяний, и ему хотелось избавиться от них — и избавиться от собственной вины.
Вот почему мое присутствие его успокаивало. Вовсе не потому, что ему нужен был мой перевод, даже не потому, что я — такой приятный повод отвлечься, просто он хотел, чтобы в эти нескончаемые часы хоть кто-нибудь рядом с ним не настаивал на препарировании его прошлого — прошлого, от которого ему больше нет спасения. Я для него лишь средство, осенило меня, некто без воли, без суждений, я — территория, где нет совести, где есть шанс укрыться, единственная компания, которую он в состоянии еще выносить, — вот почему он меня затребовал, вот причина, почему я здесь. Мне захотелось встать, и выйти из комнаты, и объяснить, что произошла ошибка. Я так и увидела себя: встаю и выхожу. Но это — только в моей голове. А на самом деле ничего такого не случилось. На самом деле я осталась сидеть на своем стуле, переводить для бывшего президента в этой комнате с этими людьми до тех пор, пока мне не сказали, что я им больше не нужна.
10
На открытие Яниной выставки в Маурицхёйс толпа собралась еще больше, чем обычно, — всех, по-видимому, привлекла тема: вроде бы и серьезная, но не без прикола. Яна часто говорила, что на нее все время наседают: надо увеличивать число посетителей, надо подыскивать новые способы демонстрировать предметы, чтобы экспозиция отвечала запросам молодой, более массовой аудитории.
С такими мыслями Яна затеяла выставку под названием «Слоуфуд» [4] — и это была первая в музее выставка, посвященная натюрморту в живописи. Яна сама признавала, что да, концепция и в особенности название — типа рекламный трюк, и здесь не было ничего общего с двумя выставками, которые она курировала до того. Но сама идея, настаивала она, с большим потенциалом. В живописи Золотого века это отчетливо звучащая тема, определенный жанр, говорила Яна, пускай названия наподобие «Натюрморт с сырами, миндалем и кренделями» [5] у людей ассоциируются со скульптурами Джеффа Кунса [6]. А мне кажется, натюрморт сам по себе интересен. Есть о чем поразмышлять, много различных граней: тут и классовое общество, и потребление, и культура демонстрирования.
Я рассматривала людей, собравшихся в фойе музея, — разодетых в дизайнерские бренды и напоказ играющих со своими смартфонами. Эти люди потягивали вино и толпились вокруг бюста Иоганна Морица, который выстроил дворец Маурицхёйс на деньги, нажитые за счет трансатлантической работорговли и захвата новых земель в Бразилии [7], — Яна мне это рассказала в мой предыдущий визит. Она за то, чтобы убрать Морица: мало того что сам он — работорговец и колониалист, еще и скульптурный портрет его по художественному уровню — так себе искусство. С этим я согласилась, Мориц в исполнении Бартоломеуса Эггерса [8], по-моему, смотрелся ужасно пафосно со своим двойным подбородком, поджатыми губами и вычурным нарядом. Он пялился в пустоту, чопорно изогнув запястье. Гости, хотя и окружали бюст, не обращали на него внимания: история присутствовала, но ее не замечали. На моих глазах мужчина в костюме зевнул и легонько задел Морица, а потом неспешно выпрямился и встал как ни в чем не бывало.
Я поднялась наверх и там, в дальнем конце зала, увидела Яну, поглощенную разговором с двумя дамами — обе были блондинки с идеальными укладками, в костюмах и на высоких каблуках, как будто только что из офиса. Судя по тому, как шла беседа, это были спонсоры: Яна оживленно кивала, но ее улыбка оставалась пустой и натянутой. Я не стала встревать в разговор и направилась в следующий зал, там размещалась постоянная экспозиция. В зале никого не было, я бродила, и меня никто не беспокоил, я шла, и шум толпы делался все тише.
В Маурицхёйс залы совсем небольшие по площади, здесь как-то по-домашнему, не сравнить с выставочными пространствами некоторых музеев, такими неохватными, что кажется, будто посетителю внушают идею величия. Я решила, что мне ближе миниатюрность здешних залов, и дело не в размере картин — хотя действительно тут некоторые произведения величиной с альбомный лист, нужно подойти поближе, издали их как следует не прочувствовать, — а больше в содержании. В отличие от холстов на Яниной выставке, в этом зале размещались в основном харáктерные портреты: мужчины, и женщины, и дети.
Очевидно было, что их позы — искусственные, но это не нарушало камерности картин: на самом деле сам акт позирования, отношения, из этого акта вытекающие, — вот что создавало ощущение необъяснимо близкого знакомства. Иногда персонажи смотрели прямо в объектив камеры, нет, конечно, неправильный образ, анахронизм, откуда у них камеры, — они смотрели прямо на художника. В этом было что-то немыслимо личное, ведь сегодня долгий человеческий взгляд — явление за пределами нашего опыта.
Вот почему живопись открывает измерение, которое обычно отсутствует в фотографии; всматриваясь в картины, осязаешь весомость уходящего времени. Я подумала, что, наверное, поэтому у девочки — а я стояла у портрета юной девушки, изображенной в полутьме, — в глазах такая настороженность и такая беззащитность. И это не пойманный художником момент внутреннего конфликта, это две разные грани эмоции, два настроения, живописец сумел отобразить их и вложить в единый образ. Здесь, на холсте, множество таких вот уловленных сочетаний — с того мига, как девушка впервые села, чтобы позировать художнику, до того, как встала с затекшей шеей и спиной — в последний раз. Это наслоение — по сути дела, смешение времен, одновременность — вот что, пожалуй, больше всего отличает живопись от фотографии. И, кстати, возможно, из-за этого для меня современная живопись какая-то плоская, ей не хватает глубины старых полотен, сейчас столько художников пишет по фотоснимкам.
Я перешла к следующей картине: молодая женщина сидит за столом, ее лицо озаряет пламя свечи, широкий лоб и круглые щеки купаются в золотом свете, крахмальные складки блузы слепят белизной. Художник использовал контрасты чрезвычайно дерзко, по крайней мере на мой непросвещенный взгляд, — не взялась бы описывать это в точных терминах: свет, будто обретя трехмерность, длится за пределами рамы, и сама картина превращается в источник света. За спиной у молодой женщины, облокотившись на стол, стоит мужчина в небрежной, вульгарной позе, что-то в нем есть отталкивающее, и он явно вторгается в личное пространство женщины, ей, впрочем, вряд ли пришло бы в голову выражение «личное пространство» — вот еще один анахронизм.
Я подошла поближе. Молодая женщина, почти девочка, трудилась над вышивкой — так, мелкая домашняя работа, мужчину в меховой шапке и полукафтане она вряд ли интересовала. Взгляд у него был плотоядный, и внимание его определенно привлекало не рукоделие, а девушка. Она была в белом, он — в черном, символика более чем понятная, но причина их встречи — вот что оставалось для меня загадкой. Я прочла этикетку — у таких картин названия обычно описательные, напрочь лишенные поэтичности, в них нет и следа неясности, не то что в названиях современных произведений. Этикетка гласила: «Мужчина, предлагающий деньги молодой женщине».