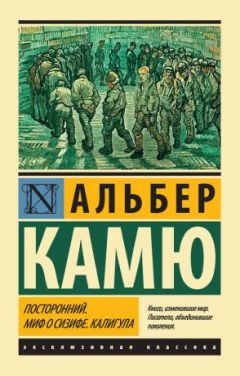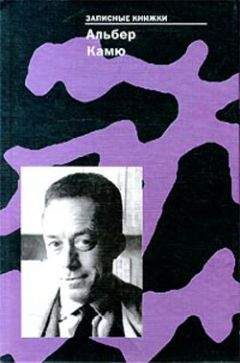Тот Город (СИ) - Кромер Ольга
– Подумайте ещё раз, – вставая из-за стола, предложил капитан.
– Вряд ли я приду к другому выводу, – собрав всё своё мужество, сухо ответила Ося.
Пятнадцатого декабря у неё снова отказались взять передачу. Утром следующего дня она отправилась уже привычным маршрутом в приёмную НКВД, где ей выдали справку, что «Тарновский Ян Витольдович, 1905 года рождения, беспартийный, из дворян, осуждён по ст. 58 п. 7, 8, 11, 17 УК РСФСР за вредительство, соучастие в терроре, участие в контрреволюционной организации и приговорён к пяти годам исправительно-трудовых лагерей без права переписки и к пяти годам поражения в правах».
Ося прочитала справку три раза подряд, спрятала за пазуху, потом достала и перечитала ещё раз. Через пять лет ей будет тридцать, а Янику тридцать пять. Он напишет ей из места ссылки, и она тут же к нему приедет. Всё ещё может быть хорошо. Но напишет ли он? Или предпочтёт страдать в одиночку где-нибудь в Казахстане, в Сибири, за Полярным кругом? Наверное, не напишет, он же думает, что она растит ребёнка. И будет так думать ещё пять лет. Она вытерла варежкой слёзы, снова спрятала листок за пазуху. Если бы знать, куда его отправили, она могла бы поехать туда прямо сейчас. Даже если им запретят видеться, всегда может подвернуться случай. Но как узнать?
Решив посоветоваться с Татьяной Владимировной, которую вот уже несколько месяцев как перестала встречать в очередях, Ося отправилась на Стрельну. Дверь открыла незнакомая женщина, сказала, что Татьяны Владимировны нет и не будет, что она уехала.
– Куда? – спросила Ося.
Женщина огляделась, прислушалась – в подъезде было тихо, пусто.
– Туда, откуда Магадан виден, – быстро сказала она и захлопнула дверь.
Ося постояла, собираясь с мыслями, затянула платок, подумала, что друзей и знакомых по ту сторону у неё скоро будет больше, чем по эту, вышла на улицу и направилась к остановке. Автобус приехал через час, и ещё почти час она тряслась в битком набитом салоне, не выдержала, вышла недалеко от площади Урицкого, пошла пешком. На площади устанавливали ёлку – первый раз за много лет, и возле огромного дерева собралась приличная толпа зевак. Высоченное, в три этажа, дерево стояло в лесах, рабочие сновали по ним вверх-вниз, обвешивая ёлку бутафорскими колбасами, шоколадными бомбами и прочими символами изобилия. Ёлки разрешили неожиданно, всего за два дня до праздника, и шаров не было – их просто не успели выдуть. У подножия, на бутафорском льду, лежали огромные цифры: «1936».
Третья интерлюдия
Корнеев разбудил меня в пять утра. – С ума сошёл, – не вставая с нар, сказал я. – Ты ж сказал, засветло, посмотри в окно.
– Снег идёт, – ответил он, ставя на печку котелок.
Я вылез из спальника, потянулся. Ноги и руки болели намного меньше, только в икрах и в плечах отдавало при каждом резком движении.
– Я готов, – сказал я. – Мне собираться нечего.
– Есть садись, – велел Корнеев. – Нынче долго пойдём, давай наворачивай.
– Не хочу я есть в пять утра, – жалобно сказал я. Корнеев не ответил.
Я вышел во двор, протёр лицо снегом. Снег валил огромными липкими хлопьями, похожими на экзотических насекомых. Ни следа, ни звука не было вокруг – абсолютная тишина, темнота и пустота. Я вдруг показался себе инопланетянином, одиноким и потерянным на неизвестной планете. Постояв ещё пару минут в этом космическом одиночестве, я вернулся в избушку. Корнеев хлебал вчерашний суп, я пристроился рядом, вылил в миску остаток густого жирного бульона.
Корнеев доел, выпил две кружки своего крепчайшего чая, быстро и ловко упаковал наше хозяйство. Без четверти шесть мы вышли из зимовья, подпёрли дверь здоровенной балясиной, надели лыжи.
– Сейчас быстро пойдём, – сказал Корнеев. – Не отстань, чемпион.
Он уехал вперёд прокладывать лыжню, я заскользил следом, стараясь не потерять лыжню в предрассветных потёмках. За следующие четыре часа мы не сказали друг другу и трёх слов. В десять Корнеев устроил привал. Мы сели на ствол поваленной ели, пожевали сухари, глотнули горячего чая из корнеевской армейской фляги. Он хлопнул меня по плечу и велел:
– Вставай, теперь ещё быстрее покатим.
В два часа он устроил ещё один привал, но костёр разжигать опять отказался. Снег всё валил, липкий, влажный, и я подумал, что, если бы не подбитые камусом лыжи, мы бы и ста метров не смогли пройти.
До зимовья мы добрались в полной темноте. Я сбросил лыжи, ввалился в избушку, в которой Корнеев уже затопил буржуйку, рухнул на пол и четверть часа просто лежал так, пока мне не сделалось нестерпимо жарко и не пришлось сесть и стащить куртку. Корнеев что-то мешал в котелке, время от времени на меня поглядывая. Посидев немного, я встал, разделся, надел сухую рубашку, спросил:
– Сколько мы сегодня прошли, Корнеев?
– С три чемкэста будет.
– Двадцать километров? – ахнул я.
Корнеев не ответил, наложил две громадные миски пшённой каши, бросил в них по тоненькой полоске сала и поманил меня к столу.
Ели, как всегда, молча. После еды Корнеев вытянулся на нарах и сказал:
– Лыжню трудно спрятать. Летом проще ходить. Гнуса только много. Летом можно и сорок отмахать. А ещё лучше – по речке.
Судя по всему, он опять был в разговорчивом настроении, и я решился задать вопрос, над которым думал весь день:
– Корнеев, а как же вы к ним ходите, в Тот Город? Вас же по лыжне очень просто выследить.
– Потому и не ходим зимой, – усмехнулся он. – Это с тобой я кренделя выделываю да снега жду.
– Ну хорошо, положим, вы зимой не ходите. А они сами? Они же живут там, у них хозяйство, невозможно не наследить.
– Не знаю, – медленно сказал он. – Не был я там. Рядом был, рядом чисто было.
– А как это всё будет, Корнеев? – задал я свой главный вопрос. – Ну придём мы туда, на условленное место, выйдет их человек нас встречать, и что?
– Открытку ему покажешь. Про бабу эту расскажешь. Ежели поверят – пустят тебя. Не поверят – обратно пойдём.
– Почему вы им помогаете, Корнеев? – спросил я после паузы.
– Хорошим людям грех не помочь.
– Но почему именно вы? Почему из всей деревни они выбрали вас?
Он ответил не сразу, сел на нарах, потянулся, стащил свой толстенный свитер, аккуратно свернул его, положил в изголовье, снова лёг и сказал медленно и как-то неуверенно:
– На отшибе мы, на самой околице. И неболтливые, из баб только мать, а она любого мужика перемолчит, сам видел.
– На отшибе ещё три дома стоят, – возразил я. – И семья у вас побольше была, когда всё началось. Чего-то ты темнишь, Корнеев.
Конечно, я рисковал. Он мог осадить меня, мог просто разозлиться и замолчать. Но он ответил, после долгого молчания и неохотно:
– Неместные мы, батюры [31], дед сюда от раскулачивания сбежал. Доносить не пойдём мы, человека за мешок муки продавать.
– Разве были такие?
– Полдеревни такие, – усмехнулся он. – Людям есть надо, детишек кормить.
– А вы? У деда твоего тоже дети были.
– Деда моего дети такого хлеба не стали бы есть.
Он сказал это негромко и даже не слишком выразительно, без осуждения, без презрения, но мне вдруг стало совершенно ясно, почему из всей деревни выбрали именно его деда.
– А мать твоя из местных?
– Мать моя и есть дедова дочка. А отец – соседа сын. Отцову семью раскулачивать пришли, а он к соседу убёг, к деду моему. Дед мой отчаянный был, долго не думал, что мог – взял, что не мог – бросил, да сюда сбежал.
– И не нашли его?
– Что здесь искать? Отсюда ссылать некуда.
– Вас тоже могли раскулачить?
– Шестьсот оленей стадо у деда было.
Шестьсот оленей. Если олень – это как автомобиль, то дед Корнеева был очень богатым человеком.
– А кто такие батюры, Корнеев?
– Из Кудымкара пришли, – буркнул он. – Всё, кончай языком чесать, завтра опять затемно выйдем.